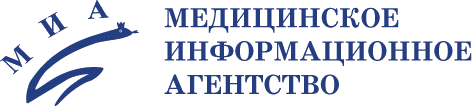— Николай Николаевич, пожалуй, вы самый наш плодовитый и разносторонний автор. Если все наши авторы — врачи, то вашу профессиональную принадлежность трудно определить одним словом. Физик, химик, биолог, медик, литератор, поэт, учёный и гуманитарий... Как бы вы сами определили себя?
— Знаете, когда заходит речь о моих ипостасях, то я всегда вспоминаю, что я ещё — юный киномеханик и чертёжник общего машиностроения. У меня хранятся соответствующие удостоверения, где так прямо и записано.
В седьмом классе я четыре месяца ездил на курсы юных киномехаников, где нас учили показывать узкоплёночные (8-миллиметровые) фильмы на аппаратах «Украина» и «Школьник». В конце мы сдавали экзамен, по результатам которого и решался вопрос о выдаче нам квалификационного удостоверения.
А два последних класса средней школы (девятый и десятый) я вместе с пятью-шестью одноклассниками монументально занимался черчением. Так, на всякий случай. На него отводился целый учебный день в неделю, но ещё много приходилось чертить дома, так что черчение отнимало массу сил и времени. Мы вечно ходили с рулонами чертёжной бумаги. Тогда как остальные наши товарищи беспечно числились учениками слесаря на заводе и на самом деле там даже не показывались. У нас же в конце второго года были защита очень даже непростого чертёжного задания плюс экзамен по теории черчения. Я почти твёрдо знал, что не пойду в технический вуз и черчение мне не понадобится. Так оно, действительно, и получилось. Но я ни разу не пожалел о, казалось бы, напрасно загубленном времени. Так что пусть ипостасей будет много — все они мои и ни одна не лишняя.
— Но все-таки, кем вы себя ощущаете сейчас — гистологом, биохимиком, биологом, врачом...?
— Ответить непросто. Я закончил с отличием Первый Московский мединститут, лечебный факультет; но из-за отсутствия практики врачом себя считать, конечно, не могу. У меня есть диплом с отличием об окончании физического факультета МГУ имени Ломоносова; но я приду в ужас, если меня примут за физика. Уже двадцать лет я работаю профессором на кафедре гистологии — даже в соавторстве с завкафедрой написал учебник и другие полезные для студентов книжки, но при этом не чувствую себя гистологом.
А до того был профессором на кафедре физической и коллоидной химии и по этой дисциплине тоже написал учебник, который, как и гистологические книги, тоже широко используется в вузах соответствующего профиля. Но я же не физхимик!
Пожалуй, ближе всего мне биохимия: я оканчивал аспирантуру и защищал кандидатскую диссертацию по биохимии, потом семь лет работал научным сотрудником на кафедре биохимии. Вот тогда с самоидентификацией у меня было всё отлично: я чувствовал себя биохимиком. Но мне пришлось покинуть ту кафедру в 1985 году, и, конечно, сейчас, после 32 лет работы на других кафедрах, никто не назовёт меня биохимиком. А если назовёт, то это будет, скорее всего, ошибкой.
Правда, надо сказать, в эти 32 года я биохимию окончательно не бросал. Два моих первых трёхтомника («Метаболизм: структурно-химический и термодинамический анализ», а также «Аналитическая биохимия») непосредственно связаны с биохимией, хотя и не сводятся к ней. Ещё одна книга имеет название «Молекулярная биология», а данная наука считается (по крайней мере, в учебном курсе) частью биохимии. Кстати, эта, не очень большая в первых двух изданиях, книжка (имею в виду «Молекулярную биологию») получила совершенно неожиданную популярность. Однако и это не даёт мне основания возомнить себя, скажем, молекулярным биологом.
А написав две книги стихов и две книги автобиографической прозы, я всё равно не чувствую себя ни поэтом, ни писателем.
Вот так и получается, что мне очень трудно, даже невозможно, определить, кто же я такой. Да, наверно, это и не очень нужно. Просто — Мушкамбаров Николай Николаевич.
— Где прошло ваше детство?
— Родился я в подмосковном городке Пушкино. Это
— Кто ваши родители? Чем они занимались?
— Увы, за несколько лет до моего детского счастья совсем в другом месте состоялось громадное, колоссальное несчастье, волны от которого вынесли ещё до моего рождения мою маму и сестру в этот зелёный подмосковный оазис.
Моя мама, Офелия Романовна Мушкамбарова, родилась в чисто армянской семье, немногочисленные родственники которой жили тогда в Баку и в Ашхабаде. Четверо детей этой семьи рано остались круглыми сиротами (Офелии, самой младшей, было на тот момент всего два года), и оттого потом судьба их бросала то в Ашхабад, то в Баку.
Вот так мама и оказалась в Ашхабаде в ту роковую ночь на 6-е октября 1948 года, когда там случилось страшное землетрясение, разрушившее весь город и повлекшее огромное, так и несосчитанное точно, количество жертв. К тому времени маме было уже 30 лет, и приехала она в Ашхабад не одна, а с трехлетней дочерью Нелли, рождённой вне брака от сельского врача-азербайджанца — видимо, большого проходимца. В Ашхабаде мама остановилась у своей сестры, жившей вместе с мужем и свекровью. Когда все это началось, мама успела проснуться, выхватить из кроватки дочь и выскочить на улицу. А сестра, её муж и бабушка — все трое — погибли под завалами дома.
Вот благодаря... хотя как тут можно сказать «благодаря»?.. Короче, маме, как беженке, оставшейся без крова и родственников в Ашхабаде, было разрешено выехать с дочерью к своему брату в Подмосковье, где тот служил военврачом.
Вскоре мама устроилась на работу в Пушкинскую ШРМ (школу рабочей молодежи) — учителем русского языка и литературы: во время войны она окончила Бакинский пединститут. В ШРМ тогда учились взрослые, порой — весьма взрослые, люди. Среди маминых учеников особый интерес к занятиям и к учительнице проявил молодой белорус Николай, милиционер. Ну, он оказался не меньшим проходимцем, чем Неллин отец; это выяснилось ещё до моего рождения, но было поздно: я уже спешил явиться миру, что и произошло 1 мая 1951 года. Хотя слово «поздно» тут тоже не очень подходит: вне всяких обстоятельств, мама очень хотела сына, и она его получила. Конечно, ей было трудно одной растить двоих детей, но она ни разу за свою жизнь не пожалела об этом.
Вот так и получается, что моё появление в этом мире абсолютно не могло бы состояться, если бы не случилась Ашхабадская трагедия. И хотя никакой моей вины в таком переплетении больших и малых событий, естественно, нет, меня до сих пор поражает драматизм этих связей. Ну, а фамилию я ношу мамину: иначе просто не могло и быть.
— Расскажите о людях, оказавших на вас в детстве и юности наибольшее влияние.
— Я рос в весьма скромной среде, где не встречались даже в единственном числе хоть мало-мальски выдающиеся личности. Я не имею в виду известность — я говорю о людях таких профессий и занятий, как журналисты, писатели, все прочие деятели культуры (артисты, музыканты, кинематографисты... кто там ещё?). Ни разу в свои первые 17 лет я не видел не то что учёного, а просто научного работника. Телевизор до окончания школы я тоже не смотрел: его у нас просто не было. То есть общий фон моей ойкумены был далёк от творческой атмосферы поиска и находок; в этом фоне преобладали незаметные серые цвета.
Я говорю об этом с большим сожалением: лет до пятнадцати я потратил совершенно попусту огромное количество времени. Да, конечно, я читал книги — всё, что попадалось под руку. Мама приносила из своей школьной библиотеки книги зарубежных писателей — Сервантеса, Мольера, Шекспира, и с этим пластом культуры мне удалось немного познакомиться.
Кстати, какой парадокс: в ШРМ проходили зарубежную литературу, а у нас, в дневной школе, за десять лет не нашлось времени ни на один урок по этим великим книгам — Шекспира, Сервантеса, Мольера и многих-многих других.
Так вот, я читал, но это чтение было абсолютно беспорядочным, и сколько всякой необязательной ерунды при этом я проглотил! Учился я легко, без проблем, мешало только заикание. Из-за него в четвёртом-пятом классах в моих дневниках начали преобладать четвёрки. Но с шестого класса классным руководителем у нас стала Евдокия Михеевна Филиппова, учительница русского языка и литературы. Она что-то во мне разглядела, после неё и другие учителя тоже разглядели то же самое. Их отношение выпрямило во мне начинающий было крениться внутренний стержень — и с тех пор я опять стал и всегда потом оставался только отличником. В общем, школу я окончил с золотой медалью, но, как уже сказал, всё, что существовало вне школы, было мне совершенно неведомо.
— Вспомните своё первое сознательное литературное произведение. О чём оно было?
Вначале, если можно, расскажу о первом «бессознательном» произведении. Дело было в третьем классе. Наша учительница решила заклеймить острым политическим словом двоечника и хулигана Сашку Галкина. И вот весь класс принялся за коллективное творчество. Общими усилиями с большим трудом родили первые две строки:
Галкин, Галкин — крокодил:
В горсовете стёкла бил...
А дальше — затор, всеобщий ступор, никто ничего путного сказать не может. И тут меня осенило, и я продекламировал окончание стиха:
...И с Никишиным он дружит
И ни капельки не тужит!
(Никишин — ещё более отпетый двоечник и хулиган из «Б» класса.) Народ просто взорвался одобрительными возгласами. Вот тогда я впервые почувствовал себя поэтом. Конечно, скорее всего, зря. Поскольку потом в школьные годы я насочинял много всякой рифмованной ерунды. Сочинения писал в стихах, поздравления к 8 марта и к Новому году, в старших классах — заумные «философские» стихи. Но ничего из этого с собой в будущее я не взял, никогда их никому после школы не читал, нигде не публиковал. А первое стихотворение, которое я счел достойным, — это маленькая «Тучка», сочинённая как раз в день нашего выпуска из школы:
Ветер тучку обидел за что-то
(Тучка мирно по делу плыла),
От обиды с горы-небосвода
Тучка несколько слез пролила.
Она горько беду рассказала
Паре нежных зеленых берёз, —
И хоть жалко им тучку не стало,
Все ж намокли от тучкиных слез.
— Почему вы решили пойти учиться в медицинский институт?
— Когда-то, ещё лет в семь, до меня дошел тот непреложный факт, что жизнь — не вечна, и каждый умирает. Вот тогда, вымочив слезами подушку, я решил, что, когда вырасту, изобрету какие-нибудь спасительные таблетки. И мама не умрёт, и Неля, и я. Подобное бывает почти с каждым. А потом забывается. Но я старался помнить. И хотя в десятом классе я стал рассматривать и другие варианты, в конце концов решил не отказываться от детской мечты и поступать в медицинский институт — но теперь не только ради нашей семьи, но и ради спасения человечества в целом. Да, именно так: не больше и не меньше. Я тогда не подозревал, что гораздо ближе к моим интересам не лечебный факультет, а медико-биологический, который уже существовал тогда во Втором Московском мединституте.
— Расскажите о вашем врачебном опыте. Что помешало стать практикующим врачом?
— Поступив в 1 ММИ, я сразу начал искать плацдарм для атаки на старение. До меня быстро дошла моя промашка с выбором института и факультета. Но я утешился тем, что наверняка и в первом меде найдутся кафедры, достаточно близкие к геронтологии. Таким образом, я изначально не собирался идти в практическую медицину. Там бы мои планы быстро утонули в пучине повседневности. Нет, я хотел по окончании института остаться на подходящей кафедре и сразу заняться наукой — начать исследовать проблему старения.
Но эти планы не уменьшали той ревности, с которой я изучал, вроде бы, совершенно ненужные мне в будущем чисто медицинские дисциплины. «На всякий случай» я вникал во всё, что нам давали.
В поисках же «плацдарма» для последующей деятельности мой взор вначале остановился на кафедре биохимии, затем, скользнув по ряду других кафедр, устремился на кафедру патологической анатомии, ненадолго задержался здесь и, наконец, решительно вернулся к биохимии. Три последние года института я работал в кружке на этой кафедре. Впрочем, слово «кружок» здесь — чисто условное. Нас в этом «кружке» было, фактически, только трое, и главное, чем мы занимались, были не праздные заседания, а непосредственные биохимические эксперименты. Для чего использовали всё свободное время.
Но и патологической анатомии я тоже отдал дань уважения. В наше время шестой курс мединститута назывался субординатурой. Студенты специализировались в этот год по одной из трёх основных специальностей — терапии, хирургии или акушерству с гинекологией. Мне же удалось пройти субординатуру на кафедре патологической анатомии. Весёлого там было мало: вскрытия, макро- и микроскопическое исследование органов умерших; пространные заключения. Но это — как с черчением в школе и с изучением медицины в институте: уходя, взять с собой по максимуму — всё, что возможно. Может быть, пригодится.
Ну а далее, как и планировал, после института сразу поступил в аспирантуру по биохимии. Только не на кафедре вуза, а в Лаборатории энзимологии АМН СССР.
Вот как раз об этих трех периодах своей жизни — школьном, институтском и аспирантском — подробно, во всех деталях, я рассказываю в двух автобиографических книгах: «Путь вверх к подножию вершин» (2013) и «Аспирант» (2016).
— Почему вы решили продолжить своё образование в МГУ?
— На втором году аспирантуры несколько месяцев у меня не было необходимого реактива. И тут я узнал, что в МГУ на физфаке есть вечернее отделение для людей с высшим образованием. Тогда это было абсолютно бесплатно. Ну почему бы в таком случае не поступить?! Я сдал экзамены и поступил — без малейшего ущерба для диссертационной работы. И это — опять из того же ряда, в котором у меня уже были черчение, медицина и патанатомия: а вдруг пригодится? И, вы знаете, второе — физико-математическое — образование, хотя и не превратило меня в физика, ещё как пригодилось! Это был перелом — трудный, конфликтный, во многих отношениях даже жестокий, но очень продуктивный и потому для меня абсолютно необходимый. Я имею в виду, что второе образование дало мне возможность перейти от экспериментальной работы к аналитической, гораздо большей соответствующей моим способностям. На этой волне я и написал две свои главные книги — уже упоминавшиеся трёхтомники: «Метаболизм: структурно-химический и термодинамический анализ» (1988) и «Аналитическая биохимия» (1996). Первый из них стал моей докторской диссертацией. И обратите внимание: в названиях обеих книг упоминается тот самый метод — анализ, — который пришёл ко мне со вторым образованием.
А почему — перелом, да ещё трудный, конфликтный и жестокий? Потому, что надо было годами и даже десятилетиями, во-первых, отстаивать своё право на такую работу, а во-вторых, пытаться донести до мира всё то, что ты этой работой открыл. Если первый вопрос я, пусть с большими потерями, всё же решил, то по второму вопросу успехи, по большому счёту, просто мизерные.
— А что вы подразумеваете под большими потерями?
— Вы помните, я говорил, что вначале работал на кафедре биохимии, затем — на кафедре физической и коллоидной химии, а последние 20 лет — на кафедре гистологии? Так вот, отстаивание права на аналитическую работу, столь необычную в медицинском мире, вылилось в несколько лет отчаянной борьбы вначале с завкафедрой биохимии, а позже — в ещё несколько лет не менее отчаянной борьбы с завкафедрой физической химии. Это — одновременно с проведением самой работы над теми трёхтомниками, моими главными достижениями. В конце концов мне приходилось менять кафедру. Но в этом был и огромный плюс! В качестве пояснения позволю себе привести следующее стихотворение (из сборника «Сто обжигающих зарниц», 2011).
Я все свои войны, увы, проиграл,
И после упорных сражений,
Плацдарм, что отчаянно я защищал, -
Я этот плацдарм неизменно терял, —
И было всё это крушеньем.
И только потом — по прошествии лет, —
Я вдруг приходил к пониманью,
Что мог задохнуться бы в клетке побед,
Тогда как иной и таинственный свет
Открылся мне в новом изгнаньи.
И я ужасаюсь, что мог победить,
Я горд за судьбу-провиденье,
Но чтобы об этом вот так говорить,
Вначале я должен был всё пережить —
Борьбу и позор пораженья.
И я не уверен, что, если б теперь
Такое случилось бы снова,
То я бы не дрался, как раненый зверь,
А мудро бы вышел в открытую дверь —
В пространство без пищи и крова.
Да, переход на очередную кафедру открывал передо мною новый мир, в котором мне было крайне интересно разобраться так же, как в предыдущем. Подробней же обо всех этих драматических событиях рассказано во второй части моей минитетралогии «Меланхолическая симфония» (2005).
— Как вы попали в издательство МИА? Какая первая ваша книга была там издана? Расскажите о ней.
— В 1997 году я перешёл на свое нынешнее место работы — кафедру гистологии. И только что избранный, новый заведующий этой кафедрой, проф. С.Л. Кузнецов, рискнувший взять меня, несмотря на мои громкие битвы на двух предыдущих кафедрах, сразу предложил мне занятие по душе — совместную работу над комплексом электронных пособий для студентов. Собственно техническую часть проекта осуществляла (в непосредственном контакте с нами) фирма «Диаморф», помещавшаяся в цоколе нашего учебного корпуса.
Через два года комплекс был готов — учебник, атлас, тесты. Всё это было написано и скомпоновано достаточно оригинально, студентам понравилось, и слух об этом достиг ушей владельцев недавно созданного частного издательства МИА. Оно тогда помещалось в новом теоретическом корпусе нашей Академии, и где-то в районе 2000 года я зашёл в книжный киоск этого издательства на первом этаже. Я собирался предложить на продажу трехтомник «Аналитическая биохимия». Посмотрев на обложку, один из присутствовавших в киоске мужчин о чём-то ненадолго задумался, а потом с характерным армянским акцентом спросил: «А не вы ли среди авторов диска по гистологии?» И, получив утвердительный ответ, сказал: «Мы предлагаем издать ваш атлас с этого диска на бумаге. Как вы на это смотрите?» Вот так и началось наше сотрудничество с издательством «МИА» и его основателем Артаком Сейрановичем Макаряном. Очень примечательно, что из размещённых на диске продуктов он остановился на самом в тот момент востребованном — атласе.
Да, бумажная версия атласа далась нам непросто! Всё было внове и для издателей, и для нас — авторов. Процесс длился не менее полутора лет. Но на выходе нас ждало маленькое... впрочем, не столь уж и маленькое, чудо — большущая красивейшая цветная книга в твёрдой красно-фиолетовой обложке. Мы были поражены и горды. Договор об издании следующей книги мы подписывали уже без малейших колебаний.
— Сколько всего ваших книг издано в издательстве МИА за эти годы? Расскажите о самых, на ваш взгляд, важных.
— После истории с атласом я как автор ни разу не изменил этому издательству. За это время я написал десять книг, и все они были изданы в МИА. И опять-таки ни разу я о том не пожалел. Среди этих книг — монография «Геронтология in polemico» (2011), венчающая мои усилия на ниве проблемы старения; пять учебников и учебных пособий (по гистологии, молекулярной биологии, физической и коллоидной химии), а также все четыре книги моей поэзии и прозы.
Причём, наиболее ходовые книги (атлас и учебник по гистологии, пособие по молекулярной биологии) изданы уже по три раза. Итого — 14 или 15 изданий за 16 лет. В среднем получается, что почти каждый год «МИА» осуществляет издание той или иной книги с моим авторством.
Какие книги из этого десятка самые важные? Трудно сказать. Ну, наверно, первая — монография. А так ведь я над каждой книгой работал как над самой важной (ну, конечно, после тех моих, многократно уже упомянутых, трёхтомников). Поэтому мне одинаково дороги и 660-страничный учебник, и 170-страничный сборник стихов.
— Кстати, как они рождались, ваши книги литературно-художественного характера?
— Ну, о начале своего поэтического пути я уже рассказывал. Далее путь этот был извилист и тернист. То у меня наступала чуть ли не болдинская осень, а то моя капризная лира засыпала лет на десять. И вообще, многие стихи мне давались весьма тяжело.
Сейчас у меня всего около 250 стихотворений. На фоне достижений лидеров поэтических сайтов (за 2000 тысячи стихов) это более, чем скромно. Поэтому я не причисляю себя к поэтам. Хотя с удовольствием читаю свои стихи всем, кто готов их слушать.
К моему величайшему сожалению, среди моих домашних ни один человек такой готовности не проявляет. Приходится утешаться мыслью, что «Нет пророка в своём отечестве!» и «Нет пророка в своей семье!»
Столь же сомнительно обстоит дело с прозой. Я с детства мечтал написать парочку жутко психологических романов. Несколько раз садился с этой целью за стол. Но, увы, у меня почти нет воображения. Зная этот свой недостаток, я решил всё-таки попробовать. Где-то я прочитал, что хорошо помогает такой приём. Надо на стену перед письменным столом повесить чистый белый лист бумаги — и затем смотреть на него. Какими должны быть размеры листа и сколько следовало на него смотреть для достижения эффекта, кажется, не уточнялось. Но суть эффекта была изложена недвусмысленно: на листе, как на экране, начнут проступать картины задуманного произведения. И остаётся только успевать их описывать, а также фиксировать разговоры персонажей. Мне это очень понравилось. Я прикрепил на стену для начала лист обычного альбомного формата А4. И одновременно думал, где мне достать большой лист ватмана для повышения качества изображения. Перед собой тоже положил стопочку листов А4 — для записи увиденного. Вроде, должно было хватить на половину романа. Правда, меня немного смутила мысль, почему воображение будет рисовать картины только на том листе, который висит над столом? Было бы удобней, если бы «экран» тоже лежал на столе — тогда не надо было бы всё время задирать голову, и запись производилась бы гораздо быстрее. Действительно, косишься краем глаза на «экран», следя за происходящим на нём, — и одновременно строчишь текст романа.
Ну, ладно: с моим «knowhow» разберёмся потом, а пока будем действовать по проверенной методике. И вот, в полной боевой готовности, я устремил взгляд как бы внутрь приклеенного к стене экрана. Пока ничего не было. Я терпеливо ждал, борясь с нарастающей сонливостью. Потом появился какой-то звук. Вероятно, звуковая дорожка пошла с опережением видеоряда. Но всё равно это надо было срочно записывать. Только я не очень разбирал слова. Потом звук стал громче и чётче: «Эй, профессор, ты там заснул, что ли? Открывай!» Это было бы неплохим началом романа. Но до меня постепенно дошло, что услышанное — не ценный плод моего творческого воображения, а грубое проявление реальности. Я узнал голос своего друга Володи Бабаева (дело было в аспирантском общежитии, где у меня была комната) и понял, что, действительно, заснул. Голова моя лежала на столе, как раз на стопке листов для половины романа. Мелькнула шальная мысль: а может быть, там уже всё готово? С тайной надеждой глянул… — увы, ничего!
А Володя, услышав моё шевеление, застучал энергичней. Пришлось подняться и отпереть дверь. Володя мгновенно заметил «экран» на стене и сразу понял его предназначение: «Сочиняешь? А я подумал, ты спишь. Ну, твори-твори! И здорово помогает?» — кивнул он на лист на стене. «Заснуть? Здорово помогает». «Так ты в самом деле спал? То-то мне слышалось похрапывание».
В общем, с писательством в тот раз у меня ничего не вышло. В этом случае ничего не остаётся, как принять за роман свою жизнь и тщательно покопаться в памяти. По поводу моих воспоминаний нередко говорят, что не могу я помнить всё так скрупулёзно, и наверняка там — сплошные басни. Отвечаю сразу всем: придумать всё то, что там написано, с моим воображением совершенно немыслимо!
- Расскажите о своей нынешней работе. Судя по откликам студентов на сайте Первого МГМУ им. Сеченова, вы — лучший профессор на свете. А вы какого мнения о студентах? Отличаются ли они от тех, какими были вы и ваши сверстники? Чем?
— Ну, насчёт «лучшего на свете профессора» — это, очевидно, ваша творческая находка. А если что-то хорошее студенты про меня и написали, — так это ничего не значит: студенты обычно имеют дело лишь с двумя-тремя преподавателями кафедры и наиболее понравившегося из них объявляют лучшим на кафедре. Объективно же рассуждая, я никак не могу быть лучшим: лекций не читаю; к тому же слишком мягок, а это нехорошо.
О студентах. Как и в наше время, их категории — всё те же: от отличников до двоечников примерно в том же соотношении. Все существующие различия обусловлены различиями лишь внешних условий, в которых росли мы и нынешние. Так, нынешние студенты подчас демонстрируют удивительную невежественность в школьных, азбучных вопросах, касающихся истории, математики, физики, биологии. Но это не их вина: так их учат, такими их штампует и выпускает ЕГЭ. К сожалению, подобные новации проникают теперь и в высшую школу — конкретно, в нашу повседневную практику.
— Какие человеческие качества вы цените больше всего?
— Можно, конечно, назвать два-три качества, но, чтобы человек был хорошим и вызывал желание с ним общаться, хороших качеств у него должно быть много. Вот, например, человек — честный, но до того, что всё время сует свою честность всем в нос, не в силах поверить, что кто-то ещё может быть тоже честным. Нужна нам такая честность? Да пусть бы, что ли, своровал немного — только бы успокоился! Или такое совершенно замечательное свойство, как преданность — другу, коллективу Родине… А от преданности Родине до национализма и фашизма — один шаг. Так что, мы должны избегать тех, кто Родину любит? Тогда кто мы сами? Нет, нам хотелось бы, чтобы преданность Родине была вставлена в раму из человечности и порядочности. И закреплена в ней толерантностью и самокритичностью. Да, просто двух-трёх хороших качеств в человеке — в отрыве от всех прочих — очень мало, чтобы присваивать ему звание хорошего человека. А между тем, многие семейные драмы обусловлены как раз тем, что мы успеваем поначалу заметить лишь ложку мёда, не обратив внимания на то, что находится она в бочке дёгтя. Вот такое вышло неожиданное даже для меня рассуждение в ответ на ваш вопрос. Так что благодарю за него.
— У вас необычная фамилия. Расскажите об её происхождении.
— О, а здесь уже совсем другая история…. Конечно, не исключено, что это лишь чудесные сплетения моей фантазии и реальных фактов. Но в любом случае, даже если мои заключения ложны, интересно на минуту погрузиться в глубь не веков даже, а тысячелетий. Короче говоря, историки всё чаще и чаще упоминают народ, или племя, мушков. Причём, приписывая ему всё большее значение. Впервые упоминание о мушках я встретил довольно давно в первом томе «Всемирной истории». Уже там им было уделено достаточно места — но как одному из древних племен Малой Азии, существовавшему примерно 3500–3000 лет тому назад. Оно пришло сюда с Балканского полуострова и, что меня заинтересовало больше всего, в результате дальнейшей миграции влилось в состав государства Урарту. Кто не знает, потом на территории Урарту образовалась Армения.
В наше время источником информации служит Интернет. Несколько лет назад в Сети повысили статус мушков: выяснилось, что, несмотря на относительную малочисленность, их считают прародителями и армянского народа, и армянского языка. А буквально вчера я прочитал в Интернете следующее: «Мушки — древнейшие предки славян». И это пишут не какие-нибудь страдающие манией величия армяне, а вполне себе русские авторы. Вот так, ни больше и не меньше.
В общем, за право произойти от мушков разворачивается настоящая борьба. Но это ещё не всё. Мушки могли дать начало только первой половине моей фамилии. А как быть со второй? И на это есть ответ.
На Балканском полуострове в те же времена существовало государство Фракия. Это название хорошо известно. Но мало кто знает другое название Фракии: Амбаркия (его использовал Мишель Нострадамус). Как видно, это имя очень удачно дополняет корень «Мушк» (происходящее от племени мушков) — начало моей фамилии. Причём, оба корня, образно говоря, пересекаются в истории и в пространстве, и во времени.
Но есть ещё одно пересечение! В девятом веке до нашей эры в Малой Азии образовался влиятельный полис Табал. Правителем его был Амбарис. Похоже? Но ведь тут как тут оказались и мушки (видимо, на пути с Балкан в прародители армян или на пути из Урарту на Балканы в прародители русских). Мушки вступили с Амбарисом в союз против Ассирии. Дальше у этого союза была масса приключений. Ассирийцы прогнали мушков прочь — выполнять свою историческую миссию. Амбариса заставили жениться на ассирийской принцессе. Но потом передумали и отняли у Амбариса Табал.
Всё это — изложенные в литературе исторические факты, в которых нет никакой моей выдумки. Единственное, что я себе позволяю, это предположить, что моя фамилия происходит от названий двух древних народов, пути которых, видимо, пересекались в истории.
Но и это не всё! Многие факты говорят за то, что эта фамилия, действительно, имеет древние исторические корни. Так, в Армении уже несколько веков назад обнаруживаются Мелик-Мушкамбаряны (приставка «Мелик» означает принадлежность к дворянству — правда, обычно не самому крупному). Очевидно, об одном из их потомков, жившем в конце XIХ века на территории Нагорного Карабаха, — Хосрове Мелике Мушкамбарове — сохранил сведения немецкий архив судебных дел (что нетрудно найти в Интернете). Хосров работал лесником, и у него возник конфликт с браконьерами, покусившимися на охраняемый им лес. Что и привело к судебному делу от 1886 года. Родовой фамилией Мелик-Мушкамбарян подписывал свои стихи и переводы архиепископ Армянской церкви Тирайр Тер-Ованнисян (1867–1956).
Ну, и, наконец, надо напомнить, что мама моя — чистокровная армянка, сохранившая фамилию своего отца и передавшая её мне.
Вот такая история с географией. Я её рассказываю вовсе не из тщеславия: гордиться тут абсолютно нечем; вообще, надуваться от наличия громких предков — глупо, поскольку и у громких предков могут быть уроды-потомки, и прежде всего следует доказывать, что ты не таков. Но здесь примерно то же самое, о чём я говорил, рассказывая об Ашхабадском землетрясении, — только в несоизмеримо большем масштабе времени и пространства. Это постижение своей вовлеченности в громадную паутину мировой истории, которая плетётся из невероятных случайностей и нашей воли — попавших в паутину людей.
— Ну, исходя из того, что я рассказывал о наших с сестрой Нелли отцах (а их обоих звали Николаем), и из того, что для меня мама выбрала то же имя, можно думать не о традиции, а о большой склонности мамы к имени Николай. У самой мамы — редкое имя: Офелия; это вполне в армянском духе — давать звучные имена (Грант, Гамлет, Нелли, Амур и т.д.). Проявив этот дух и в имени дочери, сына ей захотелось назвать так нравящимся ей русским именем.
Не могу сказать, что я ей за это благодарен. Простите, это так тривиально — именоваться Николаем Николаевичем! Меня это немного раздражает, но, спасибо, спасает фамилия.
И никого из своих сыновей я не думал называть этим именем. Всё решила тёща. Особо нас не спрашивая, она побежала с документами в загс и записала нашего первенца Николаем — чтобы сделать мне таким образом приятно. Я тут же попробовал поменять ему имя, но в загсе мне заявили, что уже поздно: запись вошла во все государственные реестры, и раньше 16 лет ничего сделать нельзя. Ну, а когда ему стукнуло 16, он был уже убеждён, что Мушкамбаров Николай Николаевич — это, в первую очередь, он, а не я. И с какой стати ему менять приросшее к душе и телу имя?
— Какие у вас творческие планы (извините за банальный вопрос)?
— Сейчас пытаюсь писать книгу «Биология человека», но никак не пойму, какой аудитории я ее адресую. Дело движется крайне медленно, и нет ни малейшей уверенности, что закончу. А в случае неудачи могу запустить ещё один-два проекта — но тоже без особой надежды на успешное завершение. Болезни, возраст… Точнее, возраст болезней… Всё это не способствует творческим планам. Но зато есть спокойное ощущение, что жизнь свою в её дееспособной фазе я всё-таки зря не растратил.
— В начале нашей беседы вы сказали о том, что еще с детских лет приняли решение победить смерть. Удалось ли сделать в этом направлении какие-то шаги? Или это в принципе невозможно?
— Я уже говорил, что всё, что мне удалось понять о старении, я суммировал в книге «Геронтология in polemico», изданной как раз к моему шестидесятилетию. Книга весьма задиристая, о чем свидетельствует само название. Там я подвергаю сомнению многие вещи, которые считаются чуть ли не очевидными. Но и свои собственные заключения и догадки я тоже излагаю с немалой долей сомнения. Так что не мне решать, прав я или не прав. И сделаны ли мною настоящие шаги в понимании проблемы старения или это лишь имитация шагов — прыжки на месте. Как говорится, будущее покажет.
Знаете, в учёной среде сейчас немало оптимистов, обещающих вот-вот победить старение и смерть. Как правило, их оптимизм мне кажется не слишком обоснованным. С другой стороны, я не знаю ни одного закона (включая второе начало термодинамики), который бы запрещал гораздо более продолжительную, чем сейчас, жизнь человека. Но, разумеется, радикальное увеличение продолжительности жизни может быть достигнуто уже не за счёт физкультуры и спорта, а путём того или иного вмешательства в саму человеческую биологию.
Беседу вела Наталия Лескова
Фото Андрея Афанасьева и из домашнего архива Н.Н. Мушкамбарова