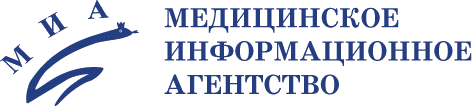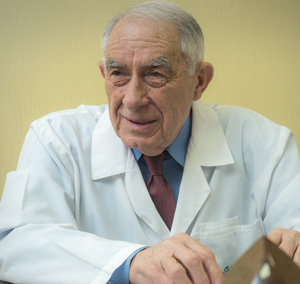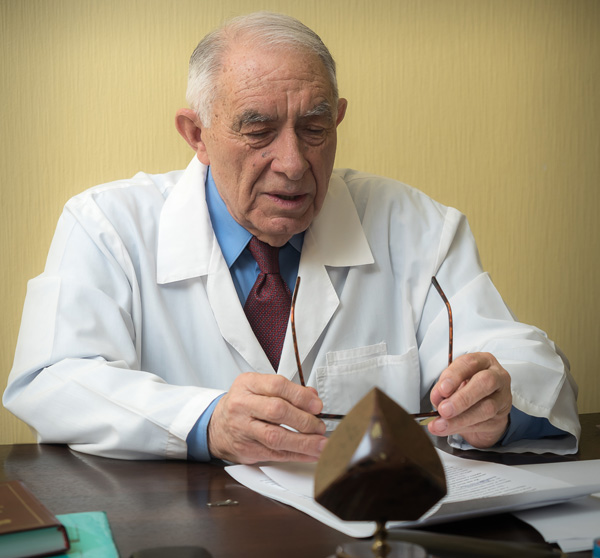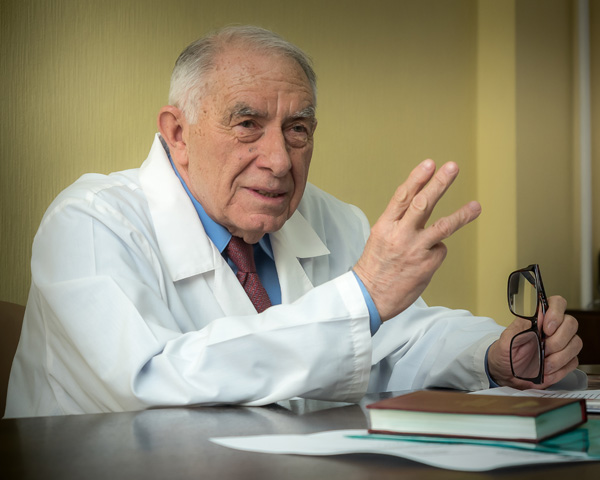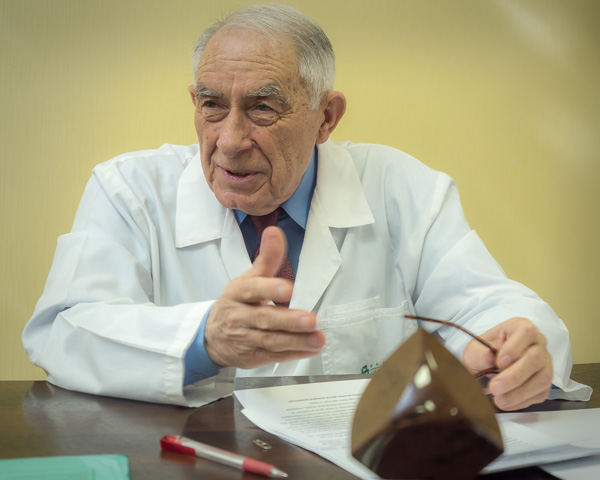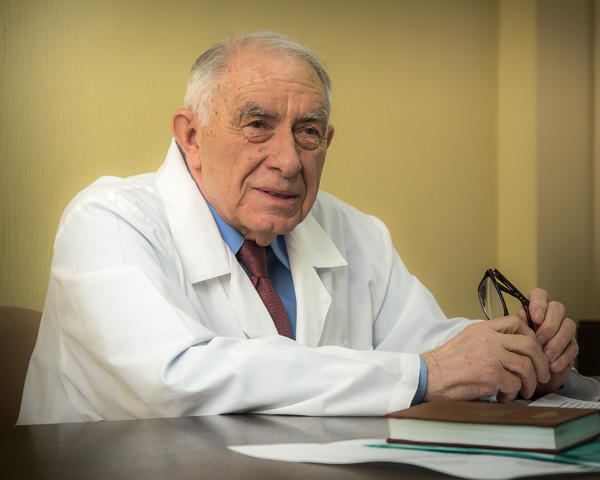Академик В.Н. Серов посвятил всю свою профессиональную жизнь борьбе за женское здоровье. Это не преувеличение. Его научные работы посвящены неотложным состояниям в акушерстве и гинекологии — акушерским кровотечениям и геморрагическому шоку, сепсису и акушерскому перитониту, сердечно-сосудистым заболеваниям при беременности, гинекологической эндокринологии, предраковым заболеваниям эндометрия.
Вот скупые слова из академического словаря: «В.Н. Серовым впервые обоснована система научных представлений по профилактике материнской смертности, выделены группы особо высокого риска. На основе изучения “послешоковых” кровотечений им сформулирована теория смертельно опасных акушерских кровотечений и дана их характеристика.
В.Н. Серов впервые сформулировал концепцию общих и специфических компонентов интенсивной терапии при неотложных состояниях в акушерстве.
В 1987 году получил премию Академии медицинских наук им. В.Ф. Снегирева за изучение и разработку лечебной тактики при акушерских кровотечениях. В 2002 году за серию работ по гемаферезу при критических состояниях в акушерстве и гинекологии В.Н. Серов в составе группы ученых удостоен премии Правительства РФ в области науки и техники».
Много лет он был главным акушером-гинекологом России и до сих пор руководит Обществом российских акушеров-гинекологов. В свои 85 Владимир Николаевич продолжает активно работать в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, где занимает должность главного научного сотрудника.
При этом в личном общении Владимир Николаевич оказывается человеком скромным и чрезвычайно благодарным тем людям, которые чему-то научили его в жизни. Именно учительство, а не учебники и не Интернет, по его мнению, в первую очередь определяет наш путь. То, какими мы станем и сможем ли быть полезными другим людям.
— Владимир Николаевич, интересно понять, что приводит человека в медицину, делает его врачом. Выясняется, что путь у каждого свой. Вот вы родились в Свердловске, потом поехали в Горький учиться...
— В Горький я не учиться поехал. Отец был туда переведен. В Горький, ныне Нижний Новгород, я попал, когда мне было четыре года, в 1935-м году. Окончил там школу. Ну, а потом в институт поступил.
— Горьковский медицинский институт по сравнению с московскими ВУЗами не уступал по уровню образования?
— Тогда мне трудно было судить. А теперь я не анализировал. Горьковский медицинский институт был хороший, но уступал ли он или не уступал… Вопрос, понимаете, в другом. Что такое медицинское образование? В первую очередь это традиции. И вот Первый московский медицинский институт, который вышел из университета и которому 200 с лишним лет, конечно, имеет глубочайшие традиции. Горьковскому было в то время совсем не много лет. Сейчас где-то, наверное, 60-70. А тогда — совсем юность. Какие традиции? Практически никаких. Если вы посмотрите наши областные города, даже не слишком крупные, но там есть медицинские институты… Точнее, университеты и академии, как они сейчас называются. Это стало модно. Скажем, Курск, Белгород, Тула, — все имеют медицинские вузы, а традиций никаких. В свое время я даже немножко поругался с ректором Сургутского университета. Они в своем университете открыли медицинский факультет. Ну, я ректору говорю: сколько вы выпускаете? Сто человек. Я говорю: а сколько нужно? Сургут, Нижневартовск, Когалым…. Допустим, одним выпуском вы удовлетворите почти все необходимые запросы. А что на будущий год? Он говорит: в Россию посылать будем.
— А у них не Россия?
— Ну, это они так говорят. На Большую Землю.
— То есть традиции важны?
— Очень важны. Там же очень мало преподавателей, которые имеют необходимый опыт. Конечно, я не могу быть в этом отношении судьей, ментором. Но твердо знаю: традиции надо создавать, воспитывать многими десятилетиями. А уровень медицинской помощи в тех городах, где работают университеты, существенно улучшается.
Другое дело, каких выпускают врачей. В свое время Энштейн совершенно справедливо говорил, что научить никого ничему нельзя, можно только научиться. Поэтому, когда мы слышим, что этого юношу или ребенка на улице обучили, — не верьте. Никакие товарищи не повлияют, если человек самостоятельный с нормальной головой. Поэтому научить нельзя. В медицинском ВУЗе, конечно, можно многому научиться. С тех пор, как я учился, прошло немало лет, но потом я 20 лет заведовал кафедрой в Медико-стоматологическому университете, поэтому видел всё изнутри. И надо сказать, что образование в то время, с моей точки зрения, было другим.
— Лучше?
— Ну, лучше или хуже — неудобно говорить, но принципиально иным. Понимаете, мы не замечаем, что делаем. Вот несколько лет тому назад вдруг объявили, что преподаватели медицинского института — это не врачи, а просто преподаватели. Они не должны вести больных, давать консультации, оперировать — они должны учить. Вот что это значит?
— Что же это получается, вы уже не врач?
— Вы послушайте дальше. Мы объявили, что сделаем симуляционные центры, которые позволят врачу учиться не на больных, а на манекенах. Понимаете, я специально подчеркиваю — учиться на больных нехорошо, а не на больных просто никогда не научишься. Поэтому получается так, что мы преподавателей поставили в позицию начетчиков, которые свою квалификацию повысить сами не смогут. Конечно, они все работают в больницах. Но другое дело, что они делают вид, что они совместители. А если формально, то они вообще через некоторое время будут книжки читать, и всё. Чему у такого преподавателя может научиться будущий врач? Кстати, студенты могут прекрасно и Интернет читать, и книжки, и преподаватель тут не нужен. Так, кстати, многие и поступают. Не понимая того, что медицина — это так же, как художественное образование. Никогда человек не научится, если у него не будет хорошего учителя. Он рисовать, писать, оперировать никогда не научится по книжке. Хороший учитель — это вообще самое главное.
— А кто были вашими хорошими учителями?
— У меня было несколько хороших преподавателей. Во-первых, Березов Ефим Львович, который заведовал кафедрой хирургии в Горьковском медицинском институте. Выдающийся хирург. В то время и в Нижнем Новгороде была очень сильная хирургическая школа, которую возглавлял Николай Николаевич Блохин. Он был директором института восстановительной хирургии: тогда, после войны, много инвалидов было. Он был ректором нашего института. Были на моем пути и другие хорошие хирурги, особенно Борис Евгеньевич Петерсон, с которым я много работал. Я был интерном по хирургии, а Борис Евгеньевич — доцентом у Березова. В то время он выполнял докторскую диссертацию, а мы — молодежь — ему помогали.
— Как помогали?
— У него была экспериментальная часть на собаках. А одна из сотрудниц вивария института имела сына — психически больного парня. Мы его звали Форой. Не знаю, почему так. Как по-настоящему — не знаю. Здоровенный такой парень, и если он не лежал в психолечебнице, то не разрешал нам собачек оперировать. Поэтому нам приходилось сначала Фору обездвиживать, буквально его связать, посадить, как-то унять. Еще мы давали ему что-нибудь такое поесть-выпить. Он это дело любил. А уж потом Борис Евгеньевич приходил оперировать, и мы тоже помогали как ассистенты. Кстати, так получилось, что я на шестом курсе почему-то начал рисовать.
— Как интересно.
— Начал, в общем-то, по необходимости. У меня куратором был аспирант Герман Львов. Он пришел с войны, где был командиром артиллерийской батареи в звании капитана, жена и дочь с тяжелым туберкулезом, обе находились в туберкулезном санатории. А ему надо было делать диссертацию. Причем надо обязательно много таблиц сделать. А у него денег не было, чтобы кому-то их заказать. Я говорю: Герман, ну давай, я попробую. Взял и написал 3–4 таблички, пришел к Александру Ивановичу, спрашиваю: подойдет? Он говорит, слушай, ну ты видел, как диссертация оформляется? Я говорю — да я и не интересовался. Ну и чудак, говорит. Конечно, говорит, это не подойдет. И дал мне альбом шрифтов. Я этот альбом шрифтов совершенно спокойно скопировал, принес Герману 200 готовых таблиц. Он был ошарашен. Спрашивает: чем я могу тебе заплатить? Герман, отвечаю, что ты, будешь ты мне платить! Он говорит: пошли в ресторан. Ну, пошли. Там на высоком берегу Волги есть гостиница «Россия». Очень красивый берег.
— До сих пор она там есть?
— Да, есть.
— В отличие от Москвы, не снесли?
— Нет, стоит. Пришли, и оказалось, что у Германа денег только на пиво и кусочек скукоженного сыра, как Райкин говорил. Ну, мы с ним выпили это пиво, а потом Герман всем на кафедре растрезвонил, что я рисую, красиво пишу. Буквально на следующий день приходит Чернявский — это был аспирант, а потом кафедрой заведовал, Александр Александрович Чернявский. И говорит: слушай, мне нужно нарисовать ход операции на желудке. Ну, я и нарисовал.
— И тоже пивом пришлось расплачиваться?
— Тут уже нет. Никаких не было оплат. Потому что я принципиально сказал, что брать ничего ни у кого не буду. Потом появился Кравченко. Он был доцентом, почти уже профессором. Он говорит: слушай, никак мне художники не могут ампутацию конечностей нарисовать. Ну, я ему нарисовал. Вызывает Березов. Мы очень его уважали.
— Слава о вас пошла уже высоко.
— Да, и не говорите. Вот я вам расскажу про Березова. Больница дежурила по скорой помощи. И ответственным дежурным был Борис Евгеньевич Петерсон. Доцент, очень хороший хирург. Но не оперировал грыжи, аппендициты, какие-то мелкие вещи. Он ставил диагноз вместе с нами, а мы шли оперировать. Делили ночь пополам. Я с Германом, а еще один товарищ, который сейчас, кстати, профессор в Горьком — он с Чернявским оперировал. И вот однажды Борис Евгеньевич поставил диагноз — аппендицит, мы прооперировали девочку 14 лет. Я прихожу через 2–3 дня, а Петерсон мне говорит: девочка-то наша чуть не умерла. Оказалось, что мы удалили аппендикс, а еще у неё был воспален дивертикул тонкой кишки. Омертвела часть кишечника. Девочку прооперировали, часть кишечника удалили, спасли.
Но начался шум. Был там такой доцент Советов, тоже хороший хирург. Он родственникам сказал — ну, оперировали двое молодых хирургов, удалили что-то не то, вот так и получилось. Родственники, конечно, взвиваются, начинается бог знает что. Березов вызвал Советова. Что там происходило, никто не знает, но Березов разбил стекло на своем столе, а Советова увезли по скорой помощи.
Кстати, Березов меня тоже вызвал и говорит: ты что, хирургом хочешь быть? Да, говорю, Ефим Львович, хирургом. Но, дескать, случай с девочкой произошел, так теперь я уже думаю прекратить эти попытки. Он отвечает: дурак, иди, оперируй и вообще не думай об этом. В хирургии нечто подобное с каждым может быть. Надо продолжать учиться. Всю жизнь учиться, чтобы таких ошибок избегать. Но ни в коем случае этого не бросать. И мы все у него учились.
— А нарисовать он вас тоже что-то просил?
— Да, в другой вызывает и говорит: послушай, никак мне не могут художники сделать рисунок поджелудочной железы. Он тогда писал книжку об этом органе. А изобразить его из-за особого расположения непросто. Ну, я покопался дня 3–4, принес ему рисунок. Он посмотрел и остался очень доволен. Слушай, говорит, закончишь институт — не распределяйся никуда, приходи ко мне работать бесплатно. Месяца 2–3 поработаешь, потом мы ставку тебе найдем. Но, честно говоря, у меня не было психологически такой возможности.
— Работать бесплатно?
— Да, пожалуй. Потому что отец к тому времени погиб на фронте, у меня было две сестры, и все было довольно трудно. Одна мать работает. Поэтому тянуть было просто невозможно.
— И вы поехали в Коми?
— Да, распределился в Коми.
— В какой город?
— Там всё тоже было непросто. Пришел я к Ефиму Львовичу, говорю — так и так, наверное, поеду в Коми. Он говорит: слушай, но это же сплошные лагеря! Я тебе дам письмо к одному из военных руководителей лагерей. Я с этим письмом ни к кому не обратился, так оно у меня и пролежало, но Березов мне твердо сказал: через три года приедешь — аспирантура будет обеспечена. А сейчас, говорит, езжай, работай. Ну, мы поехали с женой. До Сыктывкара тогда поезда не было. Он останавливался в Княжпогосте. Была железная дорога Москва-Воркута. Её во время войны построили, чтобы уголь из Воркуты доставлять в Ленинград, потому что весь балтийский флот ходил на этом угле. Высококачественный уголь там. Ну, в общем, нужно было 200 километров еще ехать машиной. Добрались до Сыктывкара. Дождь проливной. День, два, три. Сидим в аэропорту, ждем летной погоды. И один мужчина предложил мне в шахматы играть. Я плохо умею в шахматы, но делать нечего, играем. Потом выяснилось, что он зав. райздравотделом.
— Вот это судьба!
— Ну, и он говорит: зачем вы в Удорский район поедете? Езжайте в Усть-Кулом. По расстоянию это те же 200 километров, но в Удорском районе мне предлагали работать хирургом, а жене кожвенерологом. А тут меня поставили акушером-гинекологом, её — терапевтом.
Вот этот человек — заведующий райздрава Роберт Эмильевич Шумахер — тоже стал своего рода моим учителем. Из немцев Поволжья. Родители погибли. 12 лет трудовой армии. Потом, когда стал немножко постарше, сумел окончить в Ижевске медицинский институт. Он к молодежи относился очень бережно. Все помогал делать. И меня поставил главным врачом больницы.
Надо сказать, он был необычайно аккуратен. В 8:30 начиналась работа — он был в 8:30 готов всегда. И этому он нас учил. Казалось бы, придешь не в 8.30, а в 9.10, разница невелика. Или прием, допустим, в 10, а ты придешь в 10:20. Но нет — он считал пунктуальность совершенно необходимым инструментом нашей работы. При этом был очень хорошим окулистом, но и как хирург был подготовлен.
Такой был случай. Я поехал оперировать больную с внематочной беременностью. Это было в районе, километров 30, наверное. Мы на машине поехали. Зима, света нет. Что мы сделали? Набросали сугроб снега, поставили щит деревянный, и машина заехала на этот щит, опустилась, и фарами светит нам в комнату. Вот так оперировали.
— Ничего себе! Вот так операционная.
— А эта внематочная беременность оказалась большой давности. Зашить очень трудно. Все пропитано кровью, воспалено. Ну, я позвонил оттуда главному хирургу. Говорю, тут некоторые затруднения. Да зашивай, говорит, крепко, заживет. Женщина молодая, здоровая. Зашили. Поехали обратно. И попали в ситуацию. Там ЗИС — такой автомобиль большой (в то время был Завод имени Сталина) — стоит поперек дороги. У него повредило мотор. До весны не объедешь. Поэтому нужен трактор, который проделает дорогу. А где взять трактор? В общем, застряли. А в то время в нашу больницу привезли больную с разрывом матки. Там было поперечное положение, и врач, причем врач санитарный, делал операцию, чтобы извлечь ребенка. И порезал матку. Привезли к нам. А я в командировке. Хирург в другой командировке. Мы почти всегда были в районе. Остался только Роберт и моя жена-терапевт. Оперировали.
— И что, спасли женщину?
— Спасли. Или вот еще история. Там был министром Коми АССР Яков Васильевич Модянов. Он мне звонит 31 декабря, часов, наверное, в 4–5, это уже темно. Звонит и говорит: Владимир Николаевич, надо выехать в соседний район Помозино. Это 80 километров. Я говорю: Яков Васильевич, ну, я завтра самолетом — 30 минут, и на месте. Нет, говорит, надо выехать. Я вначале не понимал, что это такое. Понимаете, если отказываешься от помощи — ты судебно наказуем. Это статья. А если ты выехал и не доехал — ну, дорога такая. Там дороги и правда… Ну, мы взяли с операционной сестрой выездного жеребца из санэпидемстанции, и поехали.
— Жеребца? А машины что же, не было?
— Я же говорю — там дороги не было, только обозначалась, как просека. Мы взяли Буяна, легкие саночки, и поехали. Первая точка — это деревня Парма. Парма на языке коми — это лес. Там жили только охотники. Короче, проехали мы километра 4–5, смотрю — кругом красные точки-огоньки. Вроде глаза волков. Лошадь испугалась и понесла. А Буян был мощный жеребец, высокий. Он бьет копытами в эти саночки, а саночки легкие, то на одну сторону перебросит, то на другую. В тот момент я о волках почему-то не подумал. Думаю, если вылетишь, а в это время был где-то под 30 градусов мороз, и снег выше колена, — то есть просто замерзнешь. В общем, мы пролетели эти 20 километров моментально. Приехали, нам говорят: да, это волки. Но, мол, ничего, они сытые.
— Каким образом они сытые?
— Там много дичи было. Но нам надо дальше ехать. Местные снарядили три обоза, причем с такими большими полозьями, сани уже попрочнее, и повезли нас. В каждом обозе было по охотнику. Всю ночь мы ехали, но приехали. Довезли нас.
— И что же там вас ждало?
— Двойня. Поперечное положение, произошел самоизворот, и она родила. Акушерка ей помогала. Но эти глаза волков я надолго запомнил. Я помню, как охотники рассуждали: волки это или еноты? Ну, енотов вроде многовато. Наверное, говорят, волки. К тому же лошадь испугалась. Спокойно рассуждают так, дело житейское. Хотя опасность-то смертельная.
Вообще, если недалеко, до ста километров, часто приходилось ездить верхом. У нас был выездной жеребец. Звали его Серый. Он и правда был серый. С очень своеобразным характером. Вот когда едешь из села — он никак не хочет уезжать. Если может лечь в какую-нибудь лужу — он обязательно ляжет, чтоб тебя замочить. Зачем? А чтобы ты обратно вернулся. Но когда ты обратно собираешься, из любого места района скажешь: Серый, домой — придет безоговорочно.
Однажды мы с ним едем весной — ручьи текут, солнышко, километра полтора до села, мостик — и вдруг он оседает на задние ноги и храпит. Я не понимаю, в чем дело. И тут из-под мостика выходит медведь. Причем шатун. Рано проснулся. Он на нас посмотрел… Я запомню его взор до смерти. Презрительно посмотрел. И пошел дальше. Я, опять же, советовался с охотниками. Говорят: это очень опасно.
— Еще бы.
— Я спрашивал: а можно убежать от него? Смеются. Я говорю: а на лошади ускакать? Что ты, говорят, догонит.
— Медведь? То есть он быстро бегает?
— Он очень быстро бегает, еще и прыгает. Поэтому лошадь он задерет точно. Он может заняться лошадью, но и ты не убежишь. Один раз ударит — и всё.
— Владимир Николаевич, почему вы потом не ушли в хирурги, как собирались?
— Вообще я думал, что стану акушером-гинекологом ненадолго. Но так не получилось. А оперировать приходилось всё время, и не только акушерских. К нам все время доставляли больных. И мы с хирургом на равных оперировали. Особенно тяжелые были те, кто пострадал при лесоразработке. Там есть так называемые трелёвочные трактора, и когда валят деревья, женщины, стоя чуть ли не по пояс в снегу, обрубают с них сучья. Топоры очень острые. Эта называется «сучкорубы». Много было пострадавших женщин. Пильщики валят дерево, а сучкорубы освобождают от боковых ветвей. А потом тракторист забирал себе на щит эти так называемые хлысты. Они были сверху. И вот неопытный тракторист мог набрать больше хлыстов, и трактор переворачивался, потому что у него очень мощная лебедка, а сам он довольно легкий. И когда он начинал переворачиваться, обычно на бок, то неопытный тракторист выскакивал и попадал под трактор. Если опытный тракторист — он сидел внутри. И ничего бы с ним не случилось. К нам доставляли таких тяжелых больных — кости переломаны, потеря крови. Но мы как-то их спасали. По сути, только одна больная у меня умерла. Это своеобразная история.
— А что случилось?
— Двое собутыльников сидели и выпивали. И один из них говорит: тебе жена изменяет! А у жены грудной ребенок. Муж прогнал этого приятеля. Тот пошел домой, взял ружье. А жили они в бараках, которые назывались ЩА 33. Мы называли их 33 щели. Это на две семьи бараки. Вход был с обеих сторон, крыльцо и несколько ступенек. Он пришел, постучал в дом, и вышла жена с грудным ребенком на руках. И вот он снизу, со ступенек, выстрелил из охотничьего ружья. И попал в печень. Вот такая дыра была в печени.
— А ребенок?
— Ребенок не пострадал. Кучный выстрел был, хотя и с дробью, но она не успела разлететься. Все попало в женщину. Ее к нам привезли. Я пытался эту рану зашить, подшить сальник. Накладывать швы нельзя на печень, она расползается. Там только можно заклеивать и накладывать дополнительные. В общем, она умерла через день от продолжающегося кровотечения. А так смертельных случаев, как ни странно, не было. Просто везло. Кстати интересно, как мы туда попали и почему Роберт волновался.
— Почему?
— Потому что перед этим незадолго акушер-гинеколог (я ее не видел, вроде говорят опытная женщина) оказывала помощь при родах с поперечным положением плода. И выпала ручка. Плод живой. А в старые времена боялись инфекции и ошибочно удаляли ручку младенца. Ну, она взяла и вычленила ее в суставе. Родился живой ребенок. Без ручки.
— Как-то это жестоко — ручку удалять.
— Зачем она это сделала, никто не знает. А потом акушерка взяла этого ребеночка и вынесла в сени. А в сенях градусов 15 минус. Часа два — и его не стало. Вот такая история. В селе узнали об этом. И этому акушеру-гинекологу пришлось быстро уехать. А муж у нее тоже был врач, терапевт. И оказалось, в районе двух врачей нет. Вот зав. райотделом и уговаривал нас приехать туда.
— В какой момент вы поняли, что хотите остаться в этой специальности?
— Не знаю. Как-то работал и работал. Акушерки у меня были опытные. Они меня вызывали только тогда, когда нужно было сделать кесарево сечение. Я к обычным родам не прикасался. А вот кесарево — это хирургия. Тут я уже научился. Помню, как первый аборт делал. У нас была операционная сестра. Которая, кстати, не могла даже свою фамилию написать, она была неграмотная. Но главный хирург Коми АССР позволил ей получить диплом. И она работала операционной сестрой. Прекрасной! Я приходил к ней за советом: Елизавета Прокофьевна, сядь и посмотри, надо оперировать или не надо. Вот она сядет и смотрит. Потом говорит: надо… Она не скажет — аппендицит, внематочная беременность, но точно укажет, нужна ли операция.
— А как она определяла?
— Она видела это по реакции, по состоянию пациента. Развивается воспалительный процесс или нет. Это опыт. Сама она умела вправить вывихи и вообще очень много умела. И вот первый аборт она меня учила делать. Правда, что-то возились мы долго. А аборты в то время были запрещены. Это был 1955-й год. Но я знал, что в 56-м их разрешат. Поэтому уже было послабление.
С абортом у меня была связана очень интересная история. Приходит женщина, уже немолодая, трое детей, беременная, срок большой. Аборт делать трудно. И говорит: Владимир Николаевич, помогите, не прокормлю. Муж, говорит, возчик в соседнем лесопункте, не хочет детей больше.
Ну, я говорю, что делать? Давай, Прокофьевна, что-нибудь придумаем. Посмотрел по учебникам. И мы ввели ей антисептик для того, чтобы отслоить оболочки. Дня через два или три произошел выкидыш.
А я с милиционерами занимался стрельбой, у них был тир небольшой. Пришел как-то в этот тир. Они мне говорят: ну, тебе лафа. Я говорю — чего? Ну ты же жене Аскерова сделал аборт. Какого Аскерова? Аборт всего один был. Я говорю: помог жене возчика бедного. Они смеются: ага, возчик бедный. Это вор в законе, говорят.
— Ничего себе!
— Я в то время даже не понимал, что это такое. Но это был вор в законе. И потом в течение всех трех лет меня этот человек курировал, хотя я его ни разу не видел.
— У вас «крыша» появилась. А как он вас курировал?
— Был у нас такой Анатолий Гончаров, который работал в больнице. Это был молодой парень, которого осудили за убийство, но он был тяжелый туберкулезник. Поэтому мы его подлечивали. Без права выезда из Коми АССР он жил. И вот он мне передавал, что и как. И сам я это чувствовал. Скажем, едем мы в машине — я санитарную машину водил. Водил плохо, конечно. Застряли. Тут же появляются люди, говорят: тут человек Аскерова, надо помочь. Тут же вытащили. Короче, все знали, что я человек Аскерова, и меня трогать нельзя.
— Интересно.
— А там всякие случаи были. Помню, звонят: Петров убивает свою жену. Я говорю — звоните в милицию, что вы в больницу звоните. Мы, говорят, звонили в милицию — там сказали, что это семейное дело, они не пойдут, звоните, говорят, в больницу. Ну, я пришел. Убил уже жену этот Петров. Топором. Такие случаи бывали…
— Да, суровые края.
— Что суровые! У нас в районе было 350 человек без права выезда из Коми АССР. Было много власовцев, бандеровцы. Один из власовцев был мужем участковой врачихи. Поэтому я его знал, мы с ним разговаривали, он мне рассказывал, как все это происходило. Ну и потом бандиты, жулики, ворьё. Вот обворовывают универмаг. Разбили дверь, вытащили ящик водки, ту же напились и метрах в 50 лежат — кайфуют. Поправили дверь. Через неделю-полторы разобрали крышу, опять этот ящик водки, опять всё то же. Там ничего не уносили, увезти-то некуда. Был самолет, но он контролируется. Ходил пароход летом по Вычегде раз десять за всё лето. Поэтому увезти что-то было невозможно.
— Употребляли на месте.
— В основном, все преступления были из-за пьянки. Или наркотики. За этим делом в медицинские пункты иногда приходили, требовали, угрожали.
— Что за наркотики тогда были?
— Анатолий Гончаров, которого я вспоминал, был наркоманом. Периодически я ему выписывал наркотики, потому что у него была абстиненция — синдром отмены. А так ему сестра присылала из Воронежа систематически. Он мне рассказал, как ему через забор перебрасывают морфий. Морфий этот делался для медицинских целей. А еще там были так называемые чефирники. Люди, которые пили крепчайший настой чая. Тоже вроде как наркотик.
Был еще страшный случай, когда сгорела школа. Причем там нянечка оставила двух детей. На столе керосиновая лампа. А под столом ведро с керосином. Один мальчик маленький, и он, видимо, эту лампу в керосин утянул. Ничего не могли сделать. Как из доменной печи.
— Дети погибли?
— Дети погибли, и школа сгорела. А школа была рядом с амбулаторией. Поэтому всю ночь мы амбулаторию засыпали снегом. Наутро прибегает Гончаров, говорит: Владимир Николаевич, мне сказали, что у вас на пожаре что-то украли. Я говорю: нет, никто ничего не украл. Он говорит, если украли — все вернем, а человек, который это сделал, жить не будет. Я тогда даже поинтересовался, а чего, говорю, ты так из-за меня волнуешься? Он говорит: а у нас две категории людей, которых мы защищаем. Это адвокаты и врачи. Так он мне говорил в то время. Сейчас уже, наверное, этого нет. Не знаю, как с адвокатами, а с врачами точно.
Но самое интересное другое. Когда я собирался в аспирантуру, опять Анатолий пришел как порученец Аскерова и говорит: Владимир Николаевич, вы в Москву, в аспирантуру? Я говорю — да. Вот давайте мы вам дадим адреса верных людей: помогут с пропиской, с жильем. Я говорю: слушай, здесь тайга, что вы тут можете? Он говорит: здесь мы ничего не можем, а вот в Москве, говорит, в Ленинграде — мы все можем.
— Да вы что? Вот, оказывается, куда надо ехать, чтобы решить квартирный вопрос.
— Да. Все, говорит, сделаем. Я в шутку говорил потом: зря, наверное, я не взял у них адреса. Но я знал, что связываться с ними нельзя.
— То есть, вы в Москву попали не благодаря им?
— Нет. Это очень просто. В медицинской газете было объявление — аспирантура в научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии. А я уже тогда три года работал акушером. Послал туда письмо, чтобы разрешили сдавать экзамены. Ни ответа, ни привета. Поехали мы в отпуск с женой на юг. Потом обратно заехали в Горький. И там ректор мне говорит: слушай, сдавай экзамен, поступай в нашу аспирантуру.
У нас кафедрой акушерства заведовал Гаврил Клементьевич Черепахин. Ему было тогда, как мне сейчас, — за 80. И у него был молодой активный профессор Станислав Сергеевич Добротин. В общем, я пришел к Гавриле Клементьевичу, а он и говорит: напиши автореферат по внематочной беременности. Ну, я написал, что помню. Дня за два или три. Принес ему, он посмотрел, говорит: считай, что ты поступил в аспирантуру. И мы поехали обратно в Коми. А там лежит бумажка — приезжайте сдавать экзамен в аспирантуру в Москву.
— Дилемма!
— Никакой дилеммы для меня не было. Я не стал рассуждать, сразу поехал сдавать экзамены в Москву. Здесь мне очень помог Вячеслав Сергеевич Фриновский, который заведовал хирургическим отделением в институте. Потому что, конечно, по акушерству я был подготовлен плохо. По хирургии значительно лучше. А комиссия состояла из трех человек — Бартельс, Фриновский и Кватер, заведующий эндокринным отделением, профессор. И вот Кватер меня спрашивает про эстрогены и прогестерон. Я слабо себе представлял разницу. Что-то ответил. Потом Фриновский ему говорит: слушай, парень не отирался у тебя в клиниках, узнает потом твои гормоны.
А мне Фриновский вот чем помог. Нас было четверо, но конкурировали по сути двое ребят. Девочек сразу отсекли. В общем, Фриновский мне все сказал, что он спросит, и то, что Бартельс спросит. Он, дескать, тебя про кесарево сечение спросит, расширяй показания максимально. А я спрошу про миому. Иди, говорит, в библиотеку и прочти там руководство Глазунова. Я прочел. Фриновский все время говорил: мол, прекрасно, даже Глазунова знает!
— А почему он вам помогал?
— А потому что я ему рассказал, что я работал по хирургии, и Березова он знал. Считал, что это подходит. В общем, я прошел в аспирантуру.
— И так вы пришли в науку.
— Науку я еще довольно слабо понимал. Скорее в практику. Теперь слушайте, как было с наукой. Вызывает меня Бартельс, он как раз был директором по науке. И говорит: иди к Елизавете Николаевне Петровой, у нее есть тема для тебя по патоморфологии яичников. Я пришел к Елизавете Николаевне. Она была очень своеобразный человек, из интересной семьи. Три сестры, все трое — профессора, правда, они были по сельскому хозяйству, в медицине только она. Вот сидит, пьет чай. С сушками. А рядом сидит черная кошка. Сидит так, смотрит.
Елизавета поговорила со мной. Потом я выхожу, а там была лаборантом Надя Бреева, только недавно она умерла. И она мне говорит на следующий день: слушай, тебя Цыганка признала. Какая Цыганка? Я не понял. Она говорит, кошка была у Елизаветы, её зовут Цыганка. Так вот, если Цыганка не признает, то Елизавета уже не станет с таким человеком дел иметь. Меня вот, оказывается, признала.
А жили мы в это время в Одинцове, прописки в Москве еще не было. Через некоторое время Елизавета приносит котенка. Трехцветный, очень красивый котенок. Лисиком мы его назвали. Это была высшая мера, так сказать, доверия.
А жила Елизавета в Клину. Мы у них там бывали потом. Приезжали помогать. 22 кошки мы там насчитали без котят. Грача одного, она его лечила. Две собачки. Жила одна. Двое мужей умерли от рака. Один — печени, другой — кишечника. Она была хорошо знакома с семьей Чайковских. Детьми они очень часто бывали там на праздники. Она все знала про него, могла часами рассказывать.
Но вид у нее такой был... Она приезжала на работу с рюкзаком, в резиновых сапогах. И выглядела, ну, в лучшем случае как уборщица.
Однажды мы решили Елизавете подарить сумку. В лаборатории у нас была женщина, которая все могла достать. И вот она достала очень хорошую сумку. В то время все нужно было доставать. Аспиранты собрали деньги. Прихожу на следующий день — возвращают деньги. В чем дело? Елизавета заявила, что от своих нищих аспирантов она может взять только цветы, и то только полевые. Все вернула.
— И куда же вы эту сумку дели?
— Продали. Елизавета была своеобразным человеком. Когда она заболела, и когда, опять же, мы, аспиранты пытались ей помочь, выяснилось, что у нее на сберкнижке 33 рубля. И 33 года она была профессором.
— По рублю в год…
— А мы хотели ее направить куда-нибудь в санаторий. Потому что у нее началась тяжелая бронхиальная астма. Какой санаторий, когда 33 рубля? Она тратила все на кошек, собак, соседей. Не откладывала на черный день.
Ну, а что касается меня, то у Елизаветы весь материал для кандидатской был готов. Поэтому мне ничего не пришлось делать. Я просто анализировал.
— Это тоже надо уметь.
— Безусловно. Мы с ней много читали. Она знала английский, немецкий и французский. Моей задачей было принести нужную книгу. Это тоже непросто. У нас работал родственник одной сотрудницы в медицинской библиотеке. Он нам добывал книги. И там статья на немецком. Черт знает сколько. А нужно всего страницы. Елизавета найдет эти три страницы — тебе переведет. Она не могла сидеть в библиотеке, потому что дышала плохо. А так она помогала серьезно. И это, кстати, было определенной базой. Я не могу сказать, что там были какие-то открытия. Но вообще морфология яичника сложная и интересная, она до сих пор является предметом изучения.
— Много неясного?
— Да. Проблема рака яичников оставалась тогда и сейчас остается нерешенной. Последнее время выявило, что рак яичников нуждается в маточной трубе, а не в яичнике. Все это продолжает изучаться. А я тогда изучал доброкачественные опухоли яичников. И они тоже не были в достаточной мере изучены, материал распылялся. А у Елизаветы был огромный архив. В свое время профессор Поттер, очень крупный патологоанатом американский, предлагала Елизавете издать архив института акушерства на свои деньги в качестве атласа. Но тогда отношения с американцами были не лучше, чем теперь. Поэтому ничего не получилось. А жаль!
— А как вы стали ассистентом кафедры акушерства и гинекологии Первого мединститута?
— В течение 10 лет я был ассистентом кафедры, которой руководил Константин Николаевич Жмакин. Он тоже, без сомнения, был моти учителем. Хороший заведующий кафедрой, интересно читал лекции, к студентам относился терпимо. Но он очень умело направлял своих сотрудников. Его сотрудники Вихляева, Мануилова, Кузнецова — это все были выдающиеся профессора. Ну и меня он тоже направил, так сказать, по жизни. И он очень помогал. Вот скажем, я задержался, опоздал к студентам — Жмакин никогда мне ничего не скажет. Если я активно работаю по науке — он на мелочи внимания не обращал. Вот это, скажу я вам, уже была настоящая наука.
— А в чем заключалась настоящая наука? Чем вы занимались?
— Дело в том, что у нас была доцент, которая делала докторскую диссертацию по послеродовым нейроэндокринным заболеваниям, но не смогла этого сделать. Вот Жмакин мне и передал её работу. Это в основном были последствия очень сильных акушерских кровотечений. Я эту тему развил. Сначала был известен синдром Шихана — послеродовое кровотечение. А я описал нейроэндокринный синдром, который, по сути был противоположной, так скажем, эндокринологической клиникой. Потому что синдром Шихана — это когда всё гибнет. У роженицы некроз гипофиза, и если ей не дают преднизолон, она умирает. А нейроэндокринный синдром — наоборот. Гипоталамус возбужден, нарушается функция яичников, появляется ожирение, гипертония, диабет. Это был метаболический синдром, сейчас очень хорошо изученный. Но назвал я его в то время нейроэндокринный синдром. Эта работа была первой в мире по этой тематике. На меня работали по крайней мере 16 лаборантов. Потому что это была трудоемкая ситуация. И когда я защищался, моя работа была признана лучшей докторской диссертацией среди хирургических дисциплин. А я был самый молодой профессор акушер-гинеколог.
— А как вы попали в медико-стоматологический университет?
— Был такой Алексей Захарович Белоусов, ректор стомата. Он стал организовывать там лечебный факультет. Многих из Первого меда приглашал туда. И меня пригласил заведовать кафедрой. Так я туда пришёл и заведовал кафедрой 26 лет. Потом уже я стал главным акушером-гинекологом России.
— Вы ведь более 20 лет были главным акушером-гинекологом. И до сих пор являетесь президентом Российского Общества акушеров-гинекологов. Наверное, это трудно в вашем не слишком юном возрасте?
— Есть такое выражение: надо десять лет работать на авторитет, а потом авторитет работает на тебя. Поэтому давно, честно говоря, хотел оставить эту должность. Мог бы быть почетным. Но Геннадий Тихонович не хочет меня отпускать. Среди наших в Центре нет людей, которые могли бы меня заменить. А со стороны кого-то брать не хотят. Может, это правильно. Должен быть институт акушеров. Это важно. Ежегодно у нас проходят форум и пленум, а раньше собирались раз в пять лет. Было проще. Вот, видите, стоят книжки по акушерству, гинекологии — это все издано, так сказать, под эгидой нашего Общества. Это по сути дела элементы последипломного образования. Наше Общество два года назад было признано лучшим среди российских по последипломному образованию. Мы модули электронные делаем, открываем симуляционные центры. У нас семь Школ проходит в стране.
— Вы довольны уровнем молодых врачей акушеров-гинекологов?
— Тут есть объективные обстоятельства. Первое обстоятельство заключается в том, что среди всех медицинских показателей в последние 15 лет по сути ничего не улучшается. А материнская смертность резко сократилась. И младенческая тоже. И у нас сейчас эти показатели такие же, как в Европе. И получше даже, чем в Америке.
— А почему так?
— А вот почему. С одной стороны, вы видите, как В.В. Путин открывает перинатальные центры. В Брянске вот недавно транслировали на всю страну. Значит, общественность повернулась лицом к этой проблеме. С другой стороны, лечебная база улучшилась. Сейчас перинатальных центров где-то около 60, но по делу, хорошо работающих, их не больше 40. То есть их еще надо делать и делать. Но я считаю, что в основном ситуация улучшилась потому, что акушеры стали лучше работать. А точнее — акушеры стали гораздо лучше контактировать с врачами других специальностей. С хирургами, терапевтами, инфекционистами, трансфузиологами, анестезиологами. Потому что если у женщины возникает патология, ей не может помочь один только акушер. Он один не сделает, как правило, ничего. Теперь же акушеры легко находят себе союзников, потому что все знают — материнская смертность не должна расти. Психологическое отношение общества очень важно. Ну и не на последнем месте стоит то, что это вообще самоотверженная работа — акушеры-гинекологи.
— Вы считает, что это самая лучшая врачебная профессия?
— Одна из лучших — точно. Дело в том, что, когда вы всю жизнь имеете дело с больными, да еще, как правило, пожилого возраста, — это довольно трудно. А тут в основном молодые, здоровые женщины. Хотя ответственность в акушерстве максимальная. При этом я всегда говорю, что акушерство — это оптимистическая специальность.
— Потому что помогает рождению новой жизни?
— И поэтому тоже. А с другой стороны потому, что имеешь дело с людьми потенциально без серьезных патологий. Хотя, кстати, здоровых беременных не бывает.
— Есть недообследованные?
— Да. Как и все остальные. Потому что, как только человек начал жить, сразу пошел в сторону смерти. Поэтому обязательно выявятся генетические и прочие болячки. Сейчас, конечно, всё это, как правило, стараются выявить заранее. Особенно генетически обусловленные дефекты. Ну, допустим, дефект свертываемости крови. Ничего никогда не было такого, ну а потом роды — и начинается кровотечение. Выясняется, что там несвертываемость, синдром Виллебранда.
Вот знаете, какой вопрос меня в последнее время занимает: что главное — материальное или моральное? Нам всегда говорили, что главное — материальное. А теперь на старости лет я начинаю понимать, что главное — моральное, а точнее — слово. Это парадокс, но это действительно главное.
Вот вам пример. Несколько лет назад мне звонит из Калининграда главный акушер-гинеколог и говорит: Владимир Николаевич, у нас умерла молодая женщина после кесаревого сечения. У нее на четвертый или пятый день возник острый аппендицит, пошли на операцию, а там распространенный тромбоз кишечника. Ну, хирурги пытались что-то сделать, акушеры матку удалили со страху. Но она умерла.
Потом начинает развиваться жалоба, потому что родственникам говорят: ну, может быть, акушеры что-то не так сделали, не то влили, ошиблись… Вот она звонит и спрашивает, как им быть.
И я обратился к своему ученику Александру Давидовичу Макацария. Он крупный специалист в этих вопросах. Он говорит: Владимир Николаевич, если это мезентериальный тромбоз, то это нетипично для кесарева сечения. Но женщину похоронили. Как что-то доказать? А матку-то удалили! И матка есть. И тогда договорились, что кафедра фармакологии обследует матку.
Позвонил в Первый мединститут, там взяли. Посмотрели. У нее оказалось 13 факторов тромбофилических. Некоторые из них гомозиготные, некоторые гетерозиготные. Что это дало? Женщина уже давно похоронена, но все поняли, и родственники, и медицинская общественность, что это не ошибка врачей, не халатность, а серьезная, недообследованная патология.
Это было уже, наверное, лет семь тому назад. Так вот, после этого случая стали все эти факторы риска заранее определять. Всю эту гамму свертываемости, все тромбофилические факторы, и волчаночные коагулянты, и антитела, — всё, что может иметь подобный эффект. Анамнез крайне важен. Обильные менструации — смотрите, почему так? Какие-то длительные кровотечения — должно напрягать. Зуб удаляли, ранка долго кровила — смотрите, почему так? Всё важно.
Я к тому, что очень часто слово, сказанное компетентным специалистом, оказывается важнее всего. Макацария очень много сделал в последние годы, популяризируя эту ситуацию. Это и его заслуга в первую очередь.
— Недаром говорят: вначале было слово…
— Да, это так. А вообще меня смущает подготовка врачей. Непонятная ситуация с преподавателями. Симуляционные центры в акушерстве могут помочь. Но они очень дороги. А у молодых врачей часто нет мотивации там учиться. Поэтому у нас какие-то обрывочки получаются.
Я был в клинике Вертгеймера в Вене. Мне сказали: вот сегодня студенты дежурили, и поступила женщина. Тут же они смотрят, какой у нее ультразвук, какие анализы. Им преподаватель говорит, что это за больная, а они пытаются самостоятельно поставить диагноз. Потом подходят к этой больной убедиться, что она есть, что это реальный человек, не придуманный. Но никто ее не смотрит. Просто приходят, здороваются и уходят. Это тоже с моей точки зрения неправильно. Нужно, чтобы они могли с ней побеседовать сами, задать вопросы.
— А это вообще важно — побеседовать с больным?
— По-моему, это самое важное.
— Владимир Николаевич, мы с вами когда-то говорили об абортах. И прозвучало из ваших уст замечательное изречение, что аборт — это не вина женщины, а ее беда. Сейчас опять эта тема зазвучала с благословения русской православной церкви, которая у нас теперь стала каким-то законодательным органом. Пытаются запретить аборты, во всяком случае, бесплатные. Как вы к этому относитесь?
— Резко отрицательно. Церковь хочет вернуться на 100 лет назад, а этого не бывает. Это не получится. Поэтому, конечно, попытка обречена на провал. Но, знаете, там РПЦ не играет ведущей роли. Там госпожа Мизулина, господин Милонов. И подпевал полно. В итоге закрыли у нас программу планирования семьи. А она в основном рассчитана была на снижение абортов.
— У нас же были в стране запрещены аборты длительное время. И это привело к усугублению, а не решению проблемы.
— Ну конечно! Был у нас такой интересный человек — Андрей Попов. Он описал, что происходило в Советском Союзе при запрещении абортов. Описал криминальную структуру, в которую входили, конечно, медицинские работники, женщины, которые были вынуждены делать аборты и так далее. И он очень четко показал, что, если пытаться запрещать, то эта криминальная структура тут же оживет. Давно известно: в тех странах, где запрещены аборты — их делается больше, чем там, где они разрешены.
— И это наносит больший вред здоровью женщины, а значит, и общества.
— Да, именно так. Я не раз говорил студентам, что у нас две медицинские проблемы, и обе на «а». Алкоголизм и аборты. Вот как раз я доклад готовлю. Про последствия абортов. Тяжелые последствия. Нейроэндокринные заболевания возникают после патологических родов и после нормальных абортов. Потому что аборты — это всегда патология. Роды — это все-таки так или иначе норма. А аборты — это всегда удар по эндокринной системе. С одного аборта обычно ситуация перескакивает на другой уровень регуляции предболезни. Пара-тройка абортов — и уже болезнь. И когда женщина приходит и говорит, что она здорова, а у нее было три аборта — можно сказать, что эта беременность у нее будет протекать очень непросто, потому что все готово к патологии. Поэтому это проблема глобальная.
— Как можно решить проблему абортов? Какими мерами?
— Если мы вспомним Советский Союз, то там было около пяти миллионов абортов в год. Причем абортов, скажем, в Средней Азии было очень мало. Так что мы можем их отбросить. Абортов в Прибалтике было в пять раз больше, чем в России. Но их тоже мало — республики небольшие. Поэтому почти четыре миллиона абортов было в России. А сейчас в России? Примерно 700 тысяч. Меньше. Тоже много, но меньше!
Как, почему снизилось? Потому что, во-первых, стали о контрацепции говорить пограмотнее, хотя тоже в этом дремучих представлений хватает. Во-вторых, все-таки акушеры работают в области профилактики. То есть, как мне кажется, надо терпение иметь. Надо просвещать людей, объяснять им, поднимать их общую грамотность. Надо еще несколько лет продолжать работать.
Конечно, требуется использование гормональной контрацепции. Европейцы живут за её счет. А наши страшно боятся самого слова «гормоны». Я в таких случаях всегда говорю, что это не мать осторожности, а сестра безграмотности. Но, к сожалению, для того, чтобы акушеры-гинекологи могли пользоваться настоящими гормональными средствами, у нас не созданы предпосылки. Нет ни одного отечественного контрацептива. Вот акушер приходит в аптеку, а там десяток наименований, и он часто не знает, что выбрать. Начинает на слух воспринимать. Кто-то ему говорит одно, кто-то другое, где-то он прочитал… А ведь правильный подбор такого препарата — это залог успешного лечения.
— Разрушена наша фармпромышленность…
— Ее потопили с нашим участием. Сами виноваты. Было так называемое GMP — это известная система. Но многие наши заводы не отвечали требованиям GMP. Надо было модернизировать, а не закрывать. Вот возьмите пример — польский трихопол. Я тоже был на этом заводе. Они процветают. Препарат-то плевенький, дешевый. Но процветают. Вся Европа покупает, мы покупаем. Всё почему?
— Потому что модернизировали вовремя?
— Да. И промышленное производство там на очень высоком уровне. У нас же отечественные контрацептивы даже не пытаются делать, и это большая проблема. Мы, конечно, закупаем эти препараты. Точнее, женщины сами их закупают. Недешевые препараты. А что делать?
Художник В.А. Серов
"Ходоки у Ленина"
— Владимир Николаевич, у вас такая фамилия выдающаяся, из области искусства. Вы имеете какое-то отношение к художнику Серову? Или, может быть, к актрисе Серовой?
— Было два известных художника с такой фамилией. Был Валентин Серов, к которому на выставку недавно ломились. Между прочим, он никогда не был так популярен, как в последнее время. Почему? Серов очень много делал портретов великих князей, представителей царской фамилии, и все это при советской власти было в запасниках. Не выставлялось. А когда стали выставлять, то все увидели, что это очень красивые портреты, написанные на высоком художественном уровне. Пришла слава.
А брат моего отца, Владимир Александрович Серов, тоже был известным художником. Президентом Академии художеств, между прочим.
— Вот откуда у вас талант к рисованию! Все становится понятным. Он потом как-то пригодился в дальнейшем?
— В какой-то момент я все это оставил. Хотя почерк у меня, в отличие от большинства врачей, по сей день каллиграфический.
— Сейчас не хотите возобновить?
— Нет, наверное. Вы знаете, у меня был двоюродный брат, как раз сын Владимира Александровича Серова, и я видел, как его учили, как он становился художником. Этому можно научиться, как любой технике. Конечно, талантливым по-настоящему не будешь, а научиться можно. Потом я со многими его друзьями — молодыми художниками познакомился. Были и талантливые. Кто-то спился потом, к сожалению… Так вот, у них был дефицит тем. Не знали, что нарисовать. Как рисовать, они знали. А вот что — не всегда. И я не хотел всю жизнь так же маяться.
— А научиться быть хорошим врачом можно?
— Я уже говорил, что научить никого нельзя — самому научиться можно.
— Это может каждый или должно быть нечто врожденное?
— Вы мне ответьте на вопрос, тогда поймете. Кто может быть вообще студентом-медиком? Как принимать студентов? Вот я многие годы был в приемных комиссиях, приглашали. И вот говорят: надо принимать мальчиков, потому что нужны военные врачи. Потом говорят: вы знаете, надо колхозников. Потом рабочих. А потом не знаем, что делать с этими врачами. Хотя давным-давно Всемирная Организация здравоохранения определила, кто может быть врачом. Человек с интеллектом выше среднего. Видите, как просто! Вот кто может быть врачом. Должен быть интеллект выше среднего и желание учиться. Всё. Тогда можешь стать хорошим врачом. Поэтому, когда мы говорим — кого принимать, надо не пол смотреть или социальную принадлежность. Надо изучать интеллект.
Хотя, конечно, когда я учился, у нас было много ребят, которые пришли с фронта. Хорошо учились. Очень старательно, и, я думаю, были хорошими исполнителями. Но творческих не было.
— Наверное, творческий подход редко бывает в любой профессии. Не только в медицине.
— Без сомнения, в любой профессии. Но в медицине особенно. Потому что в медицине есть синдром выгорания. Раньше мы об этом и не знали. Но в медицине он бывает чаще, чем в других местах. И когда врач начинает говорить о том, что он любит рыбалку, или посидеть в ресторанчике, собирает марки, — я уже точно знаю, что он не врач. Потому что, если человек врач, — ничего другого ему не надо. Врачебная специальность настолько широка, что вы найдете там всё. Абсолютно всё. Это философия, рукоделие, наука, искусство, благотворительность — всё, что хотите, есть в медицине.
— У вас среди книг по медицине стоит Шекспир и Чехов. Перечитываете?
— Иногда. А вообще в последние годы я полюбил историческую, политическую, полемическую литературу. Читаю Волкогонова. Он был одним из первых депутатов, а вообще-то он генерал-полковник. Я его знал. Интересный был человек. Написал ряд книжек под названиями «Ленин», «Сталин», «Троцкий», и, кстати, меня убеждал, что Сталин был психически больным.
— А Ленин?
— Про Ленина так не говорил. Хотя, в общем-то, и он был от этого недалек… Кстати, со Сталиным дядюшка беседовал. И у него было твердое впечатление, что это прекрасный артист. Он понимал, с кем беседует, чувствовал, как надо себя вести, например, с человеком культуры или искусства. Дядюшка предложил Сталину нарисовать его портрет. Но тот сказал: нет, я прижизненных портретов не пишу. Он был нефотогеничен. Рябое лицо, низкий лоб, волосы росли редко. И дядюшка никогда Сталина не изображал. А вот Ленина изображал. У него была картина, которая называлась «Ходоки у Ленина».
— Это же очень известная картина. Она даже была у меня в школьном учебнике.
— За эту картину Сталин дал ему самую высшую премию. А еще у него была очень красивая картина, она в Русском музее висит — «Въезд Александра Невского в Псков». Его за это очень сильно ругали.
— Александр Невский не должен быть таким героическим?
— Окружение его не понравилось. Люди все слишком веселые, красивые. Но сейчас картина пользуется большой популярностью.
— Владимир Николаевич, какую роль в вашей жизни играют книги?
— Огромную. Прочитано много, да и написано немало. Трудно посчитать, сколько было за эти годы издано учебников и монографий. Это всё очень важные вещи, носители знаний. Хотя, как я уже говорил, для будущего врача не менее важно учительство — те люди, которые встретились ему на пути и у которых он научился чему-то важному. Благодаря которым стал тем, кто он есть.
Беседу вела Наталия Лескова
Фото Андрея Афанасьева