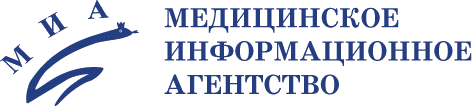Перед вами, уважаемый читатель, последнее интервью выдающегося анестезиолога-реаниматолога, академика Бориса Романовича Гельфанда. 18 апреля его не стало. Мы приносим свои соболезнования семье и близким.
Надо сказать, Борис Романович вообще не был любителем давать интервью. Готовясь к встрече, я едва нашла в Интернете одну беседу с ним. Он не был слишком публичен и, как многие анестезиологи-реаниматологи, не отличался многословием. Однако в общении оказался человеком замечательным — много шутил, рассказывал байки из жизни, подчеркивал, что на тот свет не торопится, у него много задумок. Собирался написать еще одну книгу. Не успел…
Это интервью с академиком Гельфандом публикуем только с теми поправками, которые он внес сам за три дня до смерти.
Договориться об интервью с академиком Борисом Романовичем Гельфандом было непросто. Он человек занятой. Руководит кафедрой анестезиологии-реаниматологии, совмещая научную работу с практической, исполняет функции президента Российской ассоциации специалистов по хирургическим инфекциям, член Президиума правления Федерации анестезиологов и реаниматологов Российской Федерации. Да и сама профессия реаниматолога-анестезиолога воспитывает в людях немногословность. Академик Гельфанд — человек дела.
В энциклопедии о нем пишут, что «одним из первых им изучены: патогенез, ранняя диагностика и интенсивная антибактериальная терапия хирургического сепсиса и септического шока, фармакокинетика основных ингаляционных анестетиков; предложены и внедрены в клиническую практику новые принципы лечения тяжелых хирургических гнойно-септических заболеваний и осложнений. Под руководством Б.Р. Гельфанда оптимизированы и внедрены методы анестезиологического пособия при различных хирургических операциях, послеоперационной аналгезии, разработаны алгоритмы эффективной терапии критических состояний различного генеза, в том числе синдрома полиорганной недостаточности, острого повреждения легких и респираторного дистресс-синдрома, стресс-поражений желудочно-кишечного тракта. Разработана и внедрена в практику идеология и методология профилактики гнойно-септических осложнений в хирургии, принципы и стратегия применения антимикробных препаратов в хирургии, анестезиологии и реаниматологии. За эти работы Б.Р. Гельфанду с сотрудниками присуждены государственные и профессиональные премии».
— Борис Романович, когда беседуешь с большими учеными и врачами, выясняется, что они, как правило, пришли в медицину не случайно. Это было предопределено. У вас тоже так было?
— Абсолютно.
— Кто-то на вас так повлиял?
— На меня повлияла жизнь. Я был врачом с двух лет. Помню, у нас дома на пианино стояла супница кузнецовского фарфора. А в этой супнице лежал старинный стетоскоп, такой, знаете, который из ушей всё время вываливается. Им я пользовался, играл. Эти игры в доктора вошли в мою плоть и кровь. Меня мало что еще так интересовало. А еще я стал врачом под влиянием разных грустных обстоятельств. В 4–5 лет я видел много болезней, страданий, умирающую маму... В результате решение, кем стать, пришло еще в детстве и как-то само собой.
— А у вас в семье были врачи?
— Нет. Я один.
— И после школы вы сразу пошли в медицинский институт?
— Да, сразу. Правда, до медицинского института я еще в школе работал в медицине — санитаром приемного отделения в московской больнице.
— Кто стал вашим первым учителем в медицине?
— Я поступил в 1959 году в лучшее высшее учебное заведение — Первый медицинский институт. Сейчас уже более 50 лет я работаю и преподаю во Втором медицинском, это тоже выдающийся вуз. Но тогда о нем мало что знали. Был только один — Первый. Лекции нам читали выдающиеся люди. Это плеяда гениальных врачей — перфектных, артистичных. Физиологию, например, читал профессор Вячеслав Александрович Шидловский, легенда нашего вуза. В нынешнем году исполняется сто лет со дня его рождения.
Шидловский предложил особую форму преподавания — «Школа-симпозиум». Это был не скучный, догматичный пересказ материала, а некое театральное действо, в которое были вовлечены и мы, студенты. Лекция разворачивалась с детективной увлекательностью. Мы слушали, как загипнотизированные. Например, он мог долго о чем-то рассказывать, как вдруг делал театральную паузу и неожиданно заявлял: «Все, что я говорил в течение первого часа, неверно». Повисала тишина, а затем лектор воодушевленно продолжал: «Да, неверно, потому что...» И все продолжали слушать с еще большим интересом.
Вообще он был крупным ученым-экспериментатором, посвятившим многие годы исследованию вегетативных функций при различных эмоциональных и поведенческих ситуациях. Эти работы позволили выдвинуть концепцию «вегетативного портрета», которая сочетала индивидуальную, комплексную характеристику вегетативного статуса при различных видах целенаправленного поведения и эмоционального состояния.
Или гистология — скучная, «дотошная» специальность, но её преподавал профессор Елисеев, в исполнении которого она превращалась в занимательную науку. Если он видел, что студент занимается чем-то посторонним, тут же кричал: «Уйдите, уйдите, прошу вас, сейчас же! Потом будет поздно!» Это были люди, по-настоящему увлеченные своей наукой и умеющие увлечь нас.
А уже после окончания института у меня появился великий учитель — Виктор Сергеевич Савельев. Не только для меня — для многих он стал Учителем. С его именем связана целая эпоха в развитии отечественной хирургии, он стоял у истоков советской кардиохирургии, сосудистой хирургии, флебологии, анестезиологии и реаниматологии.
— В холле вашей больницы есть бюст В.С. Савельеву с надписью «Учитель».
— Да, таким он и был. Долгое время он занимал должность главного хирурга России, и это было для него не просто должностью, но важной миссией по воспитанию особого отношения к хирургии как к бережному, ювелирному искусству. Хирург в его понимании — ни в коем случае не «мясник», а человек, спасающий жизни и возвращающий здоровье. Во многом благодаря ему сегодня в нашей стране состоялась малоинвазивная, щадящая хирургия.
— Но ведь вы стали не хирургом, а реаниматологом?
— Я хотел стать хирургом. «Виноват», опять же, Савельев. Я пришел к нему для того, чтобы получить место хирурга в больнице. Это было в конце 1965 года.
Он на меня посмотрел и говорит: «Мне хирурги сейчас не нужны. Я могу взять тебя анестезиологом». А преподавание анестезиологии в те годы было не очень глубоким. Я вообще плохо знал, что это такое. Нам, конечно, показывали методы анестезии с помощью какого-то старого оборудования. Меня это расстроило. Поехал домой, почитал, что такое анестезиология. И понял, что это серьезная наука. Я принял предложение.
— И не пожалели потом?
— Нет. Правда, Савельев перед кончиной (а он ушел в 2013-м) сказал очень важные и неожиданные для меня слова: «Я жалею, что ты не стал хирургом». Почему он так сказал, не могу точно объяснить. Но то, что не просто так, — уверен. Он был человеком очень глубоким, феноменальным во многих отношениях. Это была уникальная личность, сочетавшая в себе высокие душевные качества, профессиональное мышление и удивительное мастерство. Простой человек, родившийся на Тамбовщине, в народной среде, и превратился в гениального хирурга, академика. Это Богом данная, лучезарная миссия, которую он пронес через всю жизнь.
— Вы сказали, что реаниматология-анестезиология преподавалась в те годы кратко. А сейчас?
— А сейчас много сделано для того, чтобы эту профессию признали как крайне важную и нужную. Это академическая специальность. Ушли в прошлое те времена, когда никто об этом ничего не знал, и анестезию проводили как до Пирогова в военно-полевых условиях, с помощью стакана водки. Именно Пирогов первым превратил анестезию эфиром в науку. Но специалистов в этом направлении долгое время не существовало. Более 60 лет назад сэр Роберт Макинтош стал первым заведующим кафедрой анестезиологии в Европе. Именно ему принадлежит важное высказывание об опасности анестезии, что требует воспитания специалистов в этом деле.
История открытия этой кафедры очень любопытна. Однажды Макинтош, еще никакой не сэр, проводил анестезию одного из магнатов Великобритании. И когда тот очнулся от наркоза, то понял, что его вернули свежим и бодрым с того света. Это его так воодушевило, что он предложил Макинтошу в знак благодарности открыть для него кафедру в Оксфорде. Но там сказали, что такой специальности не существует. «Не хотите, я в Лондоне открою», — заявил магнат. Оксфордское начальство согласилось на предложение о кафедре анестезии в университете. И эта наука начала постепенно распространяться по всему миру. Теперь она преподается во всех высших медицинских учебных заведениях. Главное, чтобы в профессию не брали неподходящих людей.
— Что Вы имеете в виду?
— Наша специальность очень сложна и подходит далеко не всем. Надо иметь высоко развитые когнитивные и моторные функции, то есть определенный типаж высшей нервной деятельности. Знаете, есть «медленные» люди. Может быть, это будет отличный терапевт или стоматолог. Но в анестезиологии ему делать нечего. «Наш» врач должен обладать быстрой реакцией, но, в то же время, не торопиться, не впереди паровоза бежать, а поступать правильно, потому что каждый неверный шаг может стоить пациенту жизни.
— Борис Романович, вы участвовали во многих «инновационных» делах специальности…
— Поначалу я занимался анестезиологией чистой воды, ингаляционными анестетиками. А уже где-то в конце 50-х мы пришли к сближению понятий сепсиса и септического шока. Это очень сложная проблема, и нам хотелось поучаствовать в ее решении. Это вечная, как мир, проблема, и полностью её никогда не решить. У человечества есть два-три врага — голод, холод, инфекция... Можно ли раз и навсегда решить проблему инфекции? Думаю, нет. Но побороться с ней можно. Вот этим, в том числе, мы и занимаемся.
— Что конкретно удалось сделать в этом направлении?
— Ну, много чего. У реанимационных больных существуют самые разные осложнения, и все они могут стоить человеку жизни. Вытащили с того света — казалось бы, ура, победа. Но рано радоваться, потому что есть такие риски, как острый респираторный дистресс-синдром (так называемое «шоковое легкое») или сепсис. Об этом нами книга написана, переиздана уже раза четыре. Так и называется — «Сепсис». Это руководство для врачей, где мы приводим классификацию, выдвигаем клинико-диагностическую концепцию и предлагаем лечение этого грозного состояния. Это большая работа. Собран мировой опыт по диагностике и лечению больных сепсисом, причем, поскольку наука не стоит на месте, каждое издание — это, по сути, новая книга, и рекомендации там совершенно разные. В общем, много чего сделали. Ни в коем случае не я один. Мои учителя, мои ученики. Мы вместе.
— В моем понимании, если попытаться сформулировать задачу реаниматологов-анестезиологов в двух словах, они стараются отбить у смерти по секунде, по минуте жизни. И время клинической смерти постепенно растягивается.
— Клиническая смерть — это лишь частный случай того дела, которым мы занимаемся. А в целом — да, мы воюем со смертью, с её «представителями», посланниками. И мы этих «гадов» в покое не оставим.
— Как вы думаете, удастся ли когда-нибудь полностью их одолеть?
— Нет, не удастся. Никогда не удастся. Всегда будут серьезные проблемы, связанные с травмой, инфекций, вообще с жизнью. Жизнь ведь — сама по себе проблема.
— Каких реанимационных больных больше всего? Инфекционных, травматологических или, может быть, психиатрических? Знаю, вы этим также активно занимаетесь.
— Все заболевания, которые могут протекать тяжело, по сути своей требуют лечения методами интенсивной терапии. Предположим, началось какое-то ерундовое заболевание, скажем, панариций, и вот оно превратилось в сепсис, связанный с инфекцией кожи мягких тканей. А это уже серьезная опасность для жизни.
— Иначе говоря, любое состояние, если человек вовремя не обратился к врачу, а, например, лечился самостоятельно, может закончиться печально.
— Именно так. А что касается психиатрии, это отдельная, долгая песня. Таких больных очень много. Сложность еще вот в чем. Далеко не всегда известно, что поступивший к нам больной является психиатрическим. В истории болезни зачастую об этом нет ни слова. Это особые люди. Они маскируются, закрываются, прячутся. И можно лечить больного от какого-то заболевания, даже не подозревая, что у него есть, например, сопутствующая шизофрения. А это важно знать, потому что состояние нервной системы определяет очень многое, а в первую очередь — эффективную схему лечения.
— А что тут является причиной и следствием? Психическое расстройство порождает угрожающее жизни состояние или наоборот?
— Всё взаимосвязано. Случается и то, и другое, и порой сложно установить первопричину. В нашей Первой Градской существует одно из самых известных и крупных психосоматических отделений. Туда больные поступают с соматическими заболеваниями, но все они имеют серьезные психические проблемы. Однако сначала их нередко приходится «откачивать» в нашем отделении.
— Вы всю жизнь работаете в этой области. Можно ли сказать, что таких людей становится больше?
— Не могу сказать. Статистики у меня нет. А вообще таких пациентов у нас всегда хватало.
— Поговорим о ваших учениках. Вы ими гордитесь?
— Да. У меня достойные ученики. Могу быть спокоен за тех людей, которых воспитал. Преемники у меня есть.
— Слышала, что качество студентов упало в последнее время. Это так?
— Упал уровень требований. Например, я себе не представляю, как бы я ходил по аудитории Первого медицинского института в расстегнутом халате или у меня были рваные штаны. А они ходят. Когда здесь, в Первой Градской, работал Александр Николаевич Бакулев, попробовал бы кто-нибудь встретиться ему с торчащими из-под шапочки волосами. Это сулило бы большие неприятности. Была профессиональная дисциплина. Сейчас её нет.
Что же касается взрослых, последипломников, обучением которых я занимаюсь, то уровень анестезиологов-реаниматологов у нас высокий. Ими я доволен.
Первая Градская, она же Голицынская больница — памятник архитектуры XVIII–XIX веков
— У вас фотографии на стене — собака и симпатичный мальчик.
— Мальчик — это мой внук. А собака — это моя собака.
— Внук собирается продолжить ваше дело?
— Ему только десять лет. Он еще со мной это не обсуждал. А вот моя дочь, между прочим, доцент кафедры, которой я руковожу.
— Борис Романович, у меня есть очень щекотливый вопрос, который я не могу не задать. Есть ли жизнь после смерти или всё заканчивается, когда мы умираем?
— Отвечу честно: не знаю.
— Но ведь наверняка вы слышали необычные рассказы людей, которых вернули «с того света».
— Мне некогда заниматься галиматьей.
— Так всё это — галиматья?
— В том смысле, что всё равно нам этого не понять.
— Значит ли это, что там, дальше, ничего нет?
— Я этого не знаю. Думаю, не все так просто. Какие-то высшие силы существуют. Что-то в нашу жизнь иногда вмешивается, препятствуя материалистическому разумению. Например, мы с женой попали в жуткое ДТП. Шансов вообще не было. Абсолютно беспроигрышная ситуация для смерти. Машина в лепешку. Бензин растекся, я без очков, с жены туфли свалились, лицо в крови от мелких стекол. Приехала полиция. Спрашивают: почему вы живы? А я не могу этого объяснить. Это невероятно. Смерть подошла вплотную, но у неё ничего не получилось.
— Наверное, бывают такие пациенты, у которых, казалось бы, шансов никаких — но выжили, выписались и выздоровели?
— И наоборот тоже бывает. Вроде бы, динамика положительная, идут на поправку, и вдруг погибают. Но я не хочу примешивать сюда оккультные силы и заниматься мистикой. Могу лишь сказать: да, что-то есть такое, чего нам не дано понять. Объяснять не пробовал. Это вне зоны моей компетенции. А я могу рассуждать лишь о том, в чем разбираюсь.
— В издательстве МИА вы опубликовали много замечательных книг…
— Очень люблю это издательство. Там замечательный коллектив. Я работаю в основном с одним редактором — Валентиной Васильевной Конычевой. Она почти ребенком была, когда мы начали работать. А сейчас она выросла, можно сказать, на моих глазах, стала опытным специалистом. Но настолько сердечно, душевно относится к своей работе, не будучи при этом врачом, что с ней просто приятно общаться. Тем более что Валентина Васильевна очень привлекательная женщина.
— Сколько книг вы издали в МИА?
— Много. Последние книги вот тут стоят, на столе, и все изданы в МИА. А сейчас в работе три книги. Они построены на старом содержании, но по сути новые. Ведь сейчас книги больше трех-пяти лет не живут. Надо переделывать, переписывать. Интенсивная терапия — это живая, бурно развивающаяся наука. А вот абсолютно новая книжка — «Психические расстройства в интенсивной терапии». Ни на одном языке такой книги нет. Она в своем роде уникальна.
— Насколько заметную роль для вас играют книги?
— Огромную роль. Не понимаю, как люди живут без книг?
— Вы, наверно, много читаете?
— Всю жизнь читаю.
— А что еще вас увлекает, кроме медицины, чтения специальной литературы?
— Любовь к противоположному полу. А еще мелкие "хоббистические наклонности".
— Марки собираете?
— Марки я собирал в юности, до окончания школы. А сейчас собираю ножи. Коллекция у меня большая, но я ими пользовался только на охоте.
— Вижу у вас икону Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого…
— Это подарок моего ученика, очень хорошего специалиста Бориса Белоцерковского. Он купил эту икону в Крыму, в Симферополе, где Войно-Ясенецкий был архиепископом.
— Кто он для вас в первую очередь — врач, хирург или священнослужитель?
— Конечно, врач, выдающийся хирург. Его духовную часть жизни я плохо понимаю. Рассуждения о том, что он полюбил страдания, мне не близки. Мы боремся со страданием человеческим. Они не должны быть нормой. Поэтому здесь я не стану судить. А вот его книга по гнойной хирургии — это, конечно, медицинский шедевр. Она до сих пор не утратила своего значения, а в те годы была настоящим бестселлером.
— Борис Романович, у вас очень интересный кабинет. Какие-то манускрипты, комические фигурки врачей, фотографии — и тут же иконы.
— Икон всего две, и обе мне подарены. Про Войно-Ясенецкого я сказал. А вот эта икона с Богоматерью появилась здесь после моей смерти.
— Как это?
— А вот так. В Петушках во Владимирской области есть прекрасная церковь. Мы подружились с настоятелем. Молодой, симпатичный. Общались. И вообще там было много людей, с которыми я дружил. И вот в 2001 году вдруг молва пошла, что в Первой Градской умер профессор-анестезиолог. Кто? Ясное дело — Гельфанд. И бабы побежали в церковь к этому священнику, чтобы меня отпеть. Отпели. Потом выяснилось, что умер профессор В.А. Гологорский, мой учитель. И вот однажды летом открывается дверь нашего хирургического корпуса, входит священник, с ним какие-то женщины в платочках, и несут эту икону. Возьми, говорят, пожалуйста, теперь ты будешь жить много лет.
— Да, есть такая примета.
— Ну, вот и слава Богу. Я не тороплюсь.
Беседу вела Наталия Лескова