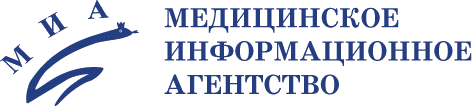Академик И.И. Затевахин — один из лидеров отечественной хирургии, президент Российского общества хирургов, ученик легендарных академиков А.Н. Бакулева и В.С. Савельева, автор множества уникальных разработок, заслуженный деятель науки РФ. Много лет он заведует кафедрой хирургии в РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Руководимая им школа внесла огромный вклад в изучение проблемы хирургического лечения хронических тромбоблитерирующих заболеваний аорты и артерий нижних конечностей. Предложены принципиально новые виды микрохирургических вмешательств при акральных формах поражения артерий, разработан и внедрен в практику метод превентивных операций, позволяющих в большинстве случаев предотвратить развитие тромба в оперированных артериях. Наряду с разработкой проблем сосудистой хирургии им сделан большой вклад в изучение проблем острой хирургической патологии органов брюшной полости. Автор более 500 научных работ. Его ученики — это 18 докторов и 69 кандидатов медицинских наук.
А в жизни академик Затевахин — это человек с широкой, доброй улыбкой, он приехал на интервью простывший, потому что «обещал, а значит, должен». Но в глубине его глаз таится огромная боль за свою страну и судьбу отечественного здравоохранения, падение престижа медицинской специальности. Поэтому разговор наш получился не только о науке и её безусловных завоеваниях, но и о том, как порой нелегко приходится их отстаивать.
— Игорь Иванович, недавно я совершенно случайно оказалась на Новодевичьем кладбище, и первая могила, которую там увидела, принадлежала генералу-лейтенанту Ивану Ивановичу Затевахину. Вашему отцу. За могилой, кстати, ухаживают.
— Да, там покоятся и мама, и отец. А ухаживают — так ведь это нормально. Это обязанность семьи.
— Ваш отец, насколько я знаю, из простых крестьян…
— Да, родился в деревне в Тульской области, в крестьянской семье. Участвовал в Гражданской войне, командовал взводом, ротой, батальоном. Потом окончил военную академию им. М.В. Фрунзе. Считается одним из старейших командиров ВДВ. С 1938-го — командир воздушно-десантной бригады. Во главе этой бригады участвовал в боевых действиях на реке Халхин-Гол в 1939 году, летом 1941-го — в обороне Киева, когда бойцам удалось сорвать все попытки врага перейти Десну. Был командующим ВДВ во время Великой Отечественной войны. Много было славных страниц в его жизни. Вот, у меня и книжка есть про отца — «Жизнь и судьба генерала Затевахина».
— Наверное, отец хотел, чтобы вы тоже стали военным.
— Нет, он хотел, чтобы я был человеком.
— Почему вы решили пойти в медицину?
— Я был профессиональным спортсменом, мастером спорта по водному поло. Сдавал экзамены экстерном — три класса в один год. Фундаментальных знаний у меня не было. Думал идти в технический вуз, но меня туда не тянуло. А в семье были медики. Троюродный брат был хирургом. А я всегда любил руками работать, с детства. Вот и решил, что тоже пойду в хирургию.
— Вы не единственный доктор, кто пришел в медицину через спорт. Мы публиковали интервью с академиками Огановым, Хубутией, Тутельяном — они тоже были спортсменами.
— А почему это должно удивлять? Люди, которые получили хорошую закалку в спорте — получили жизненную закалку. Я тогда играл в команде «Торпедо», плавал за сборную Москвы, и меня рвали на части разные вузы. Спортсмены везде нужны. Я понимал, что физику не потяну, и чертить я не умел.
— А химию или биологию хорошо знали?
— Вообще не знал.
— Как же получилось поступить во Второй медицинский институт?
— Я тогда экстерном сдал школьные экзамены, получил оценки, эквивалентные серебряной медали, и с уверенностью, что всё в порядке, отдал документы в медвуз. И уехал на соревнования. Тем летом, в 1954 году, в Севастополе проходил чемпионат страны по водному поло. Я тогда совсем молодой был, только-только вошел в команду мастеров. И вот мы первую половину отыграли, как вдруг я получаю телеграмму от отца: тебя не зачислили. Как так? Серебряная же медаль. Должны брать без экзаменов! Оказалось, не берут. Экстерн не в счет. Отец, который никогда никого не протежировал, посмотрел вывешенные списки и увидел, что меня там нет. Всё, ты не поступил. Тогда я собрался, приехал и за четыре дня в числе других ребят-спортсменов сдал четыре экзамена. Приняли.
— Не пожалели?
— Посмотрите на меня. Можно пожалеть?
— Судя по всему — нет. А после окончания института вы сразу попали в Первую Градскую…
— Не совсем так. Меня распределили в Кунцево, в районную больницу. Тогда это была Московская область. Но вскоре Кунцево присоединил к Москве. А больницу сократили. И я оказался на свободном распределении. У меня были друзья, которые занимались в хирургическом кружке при Первой Градской. Руководил им Виктор Сергеевич Савельев, будущий академик, а тогда молодой профессор. Я говорю: ребята, можно я похожу в вашу больницу волонтером? Доложили Савельеву. Он разрешил — пусть ходит.
И.И. Затевахин с учителем – академиком В.С. Савельевым
— В.С. Савельев — это ваш первый учитель в профессии? Смотрю, на стене ваши портреты рядом висят…
— Да, мы всю жизнь прошли вместе. Клиникой тогда руководил Бакулев, а Савельев был его первым помощником. Так вот, я решил, что поработаю тут месяц или два, пока найду постоянное место. Надо сказать, что в тот период мне уже пришлось бросить играть, да и зарабатывать надо было. На четвертом курсе я женился, родился сын. Я был тогда старшим тренером детской спортшколы МГУ. Но хотелось работать хирургом. Поволонтерил я два месяца, и тут Савельев мне говорит: поезжай в Горздрав, тебе дадут направление к нам. Так началась моя жизнь в Первой Градской.
— Вы там начинали от обычного ординатора…
— Я не был ни в ординатуре, ни в аспирантуре. Зачислили меня обычным городским врачом. Хирургом.
— И прослужили там до профессора...
— Да. 21 год там оттрубил.
— Помните первого пациента?
— Первый мой пациент, которого я самостоятельно оперировал, был на практике в городе Калязин Тверской, тогда Калининской, области. Так вышло, что я там был один — и операционная медсестра. Я был студентом четвертого курса. Первый «мой» аппендицит. Всё прошло благополучно. А городок этот запомнился. Необычный такой, с торчащей из воды колокольней. Больница была не в центре города, а в сельской стороне.
— Страшно было оперировать?
— Нет. Я был совершенно спокоен и уверен в себе.
— Всегда?
— Наверное, да. Волнение мешает. И в спорте, и в хирургии.
— Но обычно какие-то самые трудные случаи запоминаются. Такие, когда приходится бороться за жизнь человека.
— Каждый день нам приходится бороться за жизнь человека. Недавно в клинике лежал больной с аневризмой печеночной артерии. Его готовили к плановой операции. И вдруг прибегает медсестра и сообщает, что больной упал и у него кровотечение. Я поднялся в палату, увидел на полу лежащего больного с кровавой рвотой. Немедленно взяли его в операционную, а на операции я обнаружил разрыв аневризмы печеночной артерии с прорывом в двенадцатиперстную кишку. Удалось сделать резекцию печеночной артерии с протезированием синтетическим протезом. Больной выздоровел, я его потом показывал на хирургическом обществе, поскольку это была третья в мировой практике успешная операция по поводу разрыва аневризмы печеночной артерии.
Запоминающихся историй очень много. А когда я только начинал, мне поручили разрабатывать проблему острой артериальной непроходимости. Тогда это не было развито нигде — ни у нас, ни за рубежом. Это были 60-е годы. Начинали с нуля. Тогда летальность среди таких пациентов достигала 70 процентов.
— Что конкретно вы стали делать?
— Надо было разрабатывать диагностический алгоритм, и прежде всего — адаптировать ангиографию к экстренным условиям. Она тогда не была приспособлена к этому контингенту больных. А это больные экстренные, тяжелые, поступающие в любое время суток, как правило, ревматики с тяжелыми пороками сердца и мерцательной аритмией, у которых основное заболевание осложнилось эмболией бифуркации аорты или артерий конечностей.
Нам тогда удалось разработать методику ангиографии при помощи палатного аппарата: она позволяла получить ангиограмму всей конечности за счет скошенного рентгеновского луча и экспозиции в 3 секунды.
Но самым большим достижением стала доплерометрия. Сигнал от форменных элементов крови позволял лоцировать уровень прекращения их движения. По сути, мы научились обнаруживать эмбол. И вскоре эта методика стала рутинной для обследования сосудистых больных.
Еще одной важной нашей задачей стал поиск щадящих методов операций. Ведь для тяжелых кардиологических больных порой даже наркоз был противопоказан. В то время как такие локализации как бифуркация аорты, подвздошной или подключичной артерии требовали прямого доступа. Удаление эмболов из таких труднодоступных артерий требовало создания специальных инструментов для ретроградной эмболэктомии. С этой целью мы использовали различные катетеры, соединенные с вакуум-отсосом, бужи с булавовидными насадками и наиболее эффективные сосудистые кольца. Позже нашим американским коллегой профессором Фогарти были предложены баллон-катетеры. Однако, несмотря на всё это, летальность у таких больных оставалась высокой.
— У нас есть знакомый профессор, которому с аналогичной проблемой пришлось пойти на ампутацию ноги.
— Бывает и так, к сожалению. Но это уже запущенный случай. Мы разрабатывали методики, когда конечности, а главное — жизнь можно сохранить. Для этого надо было развивать методы диагностики, потом придумывать методы операций. Причем большие, открытые операции такие пациенты часто не выносили. Возникал так называемый постишемический синдром. Как выяснилось, это и было основной причиной высокой летальности у таких пациентов. Мы создали новое направление — поиск средств и методов борьбы с этим синдромом. Вместе с лабораторией академика В.В. Кованова в Первом медицинском институте мы изучали природу постишемического синдрома, искали ишемический токсин. Разрабатывали искусственное регионарное кровообращение конечностей.
Уже тогда понимали: тромб вытащили, восстановили кровообращение, а человек умер. То есть возникает ситуация, когда восстановление кровообращения в ишемизированных тканях ведет к массивному поступлению в общий кровоток токсических продуктов с развитием сердечно-сосудистой, дыхательной и острой почечной недостаточности. Мы прошли большой путь в попытках профилактировать постишемический синдром, начиная с венотомий и промываний по системе артерия-вена и заканчивая регионарной перфузией. А к концу 70-х годов прошлого века вошли в безусловные лидеры в этом разделе хирургии. Начинать же надо было с организации потока больных. Это только в то время можно было сделать.
— Сейчас бы не сделали?
— Нет. Потому что нужно собирать больных с летальностью 50% и выше. Кому это интересно? А я тогда как раз всю диагностику и делал. Потом, если надо было оперировать, звонил Виктору Сергеевичу, — он приезжал, оперировал. Потом я оброс командой. Они называли себя «детьми лейтенанта Шмидта». Я и сам был тогда мальчишкой. Жил я тогда недалеко от Первой Градской. Павлов переулок, где монетный двор. Ну, фактически жил в больнице. День отработал, вернулся — в ночь звонят. Прихожу и оперирую. Потом на скорой меня обратно, домой, часа в три ночи.
— Жена как к этому относилась?
— Все относились нормально. Это жизнь была. А утром обратно — конференция без четверти девять. И так всю жизнь.
— Это же недосып хронический. Тяжело или привыкли?
— Привык. Когда я еще начинал, одной ставки врача было недостаточно. Значит, надо было работать на две ставки. Добирал дежурствами. Два дежурства плановых, а на ставку это еще семь дежурств. Вот и получается, что из больницы ты почти не выходишь. И это нормальным считалось.
— Проблемы при острой артериальной непроходимости были не единственными, с которыми вам пришлось бороться. Инфекция в сосудистой хирургии — это что за проблема?
— Это очень серьезная проблема. Хирурги называют эту патологию кошмаром сосудистого хирурга.
— Откуда они берутся, эти инфекции?
— Да откуда угодно. От зуба гнилого, например. Операции, связанные с артериальной непроходимостью, часто подразумевают либо замену сосуда на синтетический протез, либо мы движемся в обход этого сосуда: так называемые шунтирующие операции. В результате может пройти все хорошо. Но потом, скажем, когда ты оперируешь такого хроника, а у него уже гнилой палец, то в результате инфекция проникает в кровь, и начинается сепсис. Как с ним бороться? По-разному. Каждый случай индивидуален. Если, например, инфицирован протез, то это инородное тело, которое необходимо удалить. Пока этого не сделаешь, невозможно решить проблему. А удаление протеза, который ранее был наложен, сразу ставит вопрос о жизни конечности, потому что нередко возникает гангрена.
— Это достаточно частое осложнение — такой инфекционный процесс?
— Не редкое. Тоже надо было собирать этих больных, обобщать, исследовать. Уже когда я пришел работать в 57-ю больницу, при поддержке Департамента здравоохранения сделал большую реконструкцию в хирургической службе.
— Вас пригласили сюда заведовать хирургической службой?
— Нет. Меня пригласили заведовать кафедрой хирургии. Так я здесь оказался. И тружусь вот уже 35 лет. Мне удалось тогда открыть одно сосудистое отделение, потом второе. Это был такой огромный сосудистый комбинат, самый крупный в стране. Два сосудистых отделения, одно отделение онкологии и два — общей хирургии. Всего 300 коек. С экстренной службой, с круглосуточным приемом, в том числе экстренных сосудистых больных. Здесь царило полное взаимопонимание.
Такая хирургическая база являлась идеальным плацдармом для педагогического процесса (обучение студентов, ординаторов, аспирантов) и давала возможность для разработки ряда проблем экстренной и плановой хирургии. Такими проблемами являлись острый панкреатит, осложнения язвенной болезни, острый холецистит, острые тромбозы и эмболии, хроническая артериальная непроходимость, эндоваскулярная хирургия, хирургия циррозов печени. Практически по всем этим разделам написаны монографии, сделано много важного и нужного.
— В связи с чем такое разнообразие интересов?
— Заниматься всеми этими проблемами заставила жизнь. Во втором Мединституте, теперь — РНИМУ, клинические кафедры находятся на базе городских больниц. Здесь полный набор повседневной хирургической «кухни». Не всегда известно, что тебя ждет сегодня или завтра. Может, это будет экстренная кардиохирургия, ранения сердца, прободная язва или острый аппендицит.
— То есть, вы универсал?
— Да, в принципе, я все оперировал. И пищевод, и сердце, и сосуды, и в животе всё, что там есть. При этом всегда занимался наукой. Она позволяет решать самые сложные проблемы. Меня всегда интересовала, скажем, не просто язвенная болезнь и как ее лечить — это терапия, а осложнения язвенной болезни, и прежде всего кровотечения. Написали на эту тему несколько монографий. Вся наша кафедра этим занималась.
— Именно поэтому, видимо, в свое время вас избрали в Академию наук? За эти разработки, наверное?
— Наверное. Кстати, член-корреспондентом Академии я был избран как общий хирург, а действительным членом — по сосудистой хирургии.
— На стенах у вас много фотографий. Это ваши учителя?
— Можно сказать, это фотографии учителей и моих предшественников. С.И. Спасокукоцкий, Александр Николаевич Бакулев, с которым я поработал около семи лет. Даже на операции ему помогал. А это Андрей Владимирович Гуляев, он 21 год заведовал этой кафедрой. Ну и, конечно, В.С. Савельев. Это всё одна школа, начало которой дал С.И. Спасокукоцкий.
Академик И.И. Затевахин в кругу учеников
— А учениками Вы гордитесь?
— А как же. У меня много учеников. Причем не только в России. В Узбекистане, например, один из учеников стал ректором Самаркандского медицинского университета. Сейчас один из моих учеников — Саша Троицкий, точнее, Александр Витальевич, ректор университета ФМБА. Прекрасный хирург. Многие ученики трудятся здесь, в 57-й больнице. Некоторые заведуют отделениями. Профессор Владимир Шиповский — один из ведущих специалистов в рентгенхирургии, мастер ангиопластики, с помощью которой восстанавливается просвет артерии. Первая такая операция у нас сделана в 1987 году.
— Игорь Иванович, хочется как-то избежать таких тяжелых состояний, о которых мы говорим. У вас есть какие-то универсальные советы: как надо жить, чтобы всего этого не случилось?
— Жить надо хорошо.
— Это понятно. Но что конкретно нужно делать или чего не делать?
— Очень многое зависит от генетики. Прорваться в это мы пока не можем. А так — совершенно общие понятия, такие же, как две тысячи лет назад. Правильно питаться. Самое важное — это физическая нагрузка. Она нужна обязательно.
— Нагрузка-то разная бывает.
— Для меня, например, плавание. Хожу в бассейн. В водное поло уже, конечно, не могу играть, но плаваю по километру и занимаюсь на кардиотренажере.
— То есть надо заниматься тем, что тебе привычно?
— Привычно и комфортно. Скажем, боксировать или тянуть штангу в 80 лет, наверное, не очень правильно. А вообще любой спорт, я уверен, воспитывает. Особенно командные виды спорта формируют характер.
— Игорь Иванович, насколько я понимаю, причиной многих заболеваний, которыми вы занимаетесь, является атеросклероз сосудов. Это заболевание сегодня прогрессирует, молодеет. Вы видите тут какую-то общую причину — почему это происходит?
— Опять же — в основном генетика. Ну, и образ жизни, неправильное питание, малая подвижность, отсутствие занятий спортом. Спорт вообще многому учит и всему помогает. Это дисциплина, самоорганизация, выдержка, воля, умение добиваться поставленной цели.
— А умение проигрывать?
— У нас проиграть — это когда кто-то умер у тебя на столе. Вы об этом?
— Я имею в виду спорт. Скажем, занял не первое место, а третье, например. А хотелось первое. Так же и в медицине. Ведь бывает, уходят из медицины, если кто-то умер.
— Да, бывает. Это очень сложно для объяснений. Но есть вещи фатальные, когда ты понимаешь, что сделал всё, что мог. Но поздно. Скажем, это касается онкологических больных. Ну что тут сделаешь, ну что? Уходить из медицины? Ну, можно, наверное. А кто будет тогда работать?
Я в свое время занимался аневризмами аорты, и опять-таки не просто аневризмами, а разрывами. Это смертельно опасная патология, когда чаще всего пациента не успевают довезти до больницы. Когда уже, как говорится, «усё». Достаточно много их прооперировал. Мне звонили — говорю: берите на стол, ребята, сейчас буду. Команда была всегда готова. При том движении, которое раньше было, я успевал с Арбата доехать до первой Градской минут за 10-15. Знаете, зато каждая победа — это победа.
— И какое качество жизни у этих людей?
— Аневризмы характеризуются тем, что если их правильно и вовремя прооперировать, то эти пациенты попадают в популяцию адекватно живущих людей, то есть живут, как все остальные, без патологий брюшной аорты. Люди становятся практически здоровыми.
— Ваши коллеги — сосудистые хирурги — говорят о том, что сейчас идет сплошной поток больных с различными сосудистыми патологиями — ишемия кишечника, других внутренних органов. Говорят, раньше их столько не было. И не всегда их могут диагностировать вовремя. А что уж говорить про варикозную болезнь, которой теперь страдают вообще чуть ли не все с молодых лет.
— И страдали, и страдают. Это расплата за прямохождение.
— Но вопрос вот какой. Сейчас придуманы неинвазивные методы лечения варикозной болезни, но почему-то в нашей стране они не проводятся по медицинскому полису. Платить же за лазерную облитерацию или радиочастотную абляцию далеко не каждому по карману. Часто возникает дилемма: плати или умри от тромбоза.
— Мы пришли к опасной теме. Знаете, я сейчас вам маленькую историю расскажу. У меня есть ближайший помощник, блестящий хирург. У него рядом с домом коммерческий медицинский центр. Думает: почему бы не подработать по выходным? Зарплата-то невесть какая. Пришел, говорит: вам хирурги нужны? Нужны. Принес документы на следующий день. Они смотрят: доктор наук, профессор, заслуженный врач. Нет, говорят, вы нам не подходите. Почему? Ну, вы же не будете запускать больных.
— Это как?
— Запускать по кабинетам. Пройдите, мол, такое-то и такое-то дополнительное обследование, сдайте кучу анализов. Зачем? Ясно зачем: чтобы платились соответствующие деньги. Он говорит: конечно, нет. Все рекомендации — строго по назначению. Ну, тогда до свидания. Поэтому ваш рассказ про эти методики, которые процветают в коммерческих центрах, где вас запугивают тромбозом и тромбоэмболией, — это, на мой взгляд, профанация и безобразие. С таким же успехом вам могут сказать, что у вас может быть рак желудка.
— Ну, они говорят это по результатам УЗИ конечностей. Делают такое исследование и подводят итог: вам показана радиочастотная абляция, если вы хотите ходить после этого, а не делать по шагу в неделю, как после классической флебэктомии.
— Жулики. Просто жулики. Варикозная болезнь у нас, конечно, на потоке, и я до сих пор считаю, что если есть показания, то ничего лучше флебэктомии не придумано. РЧА — дорогая штука и ничем она не лучше. Никаких последствий правильно выполненная флебэктомия не имеет. Вставать пациент должен в этот же день. И начинать ходить. Чем раньше — тем лучше. Чем больше — тем лучше. Остальное — выкачивание денег. Денег больших. Для многих совершенно неподъемных. Таких — миллионы. На этом построена коммерческая медицина. Конечно, там есть порядочные люди, но в целом… Их там не очень держат. Понятно почему. Невыгодно.
— К сожалению, тень коммерциализации нависла над всей нашей системой здравоохранения.
— Огромная тень. Только в Москве 2400 хирургических коек закрыли. Для чего? Чтобы платили. А кто не может платить?
— Какие проблемы вас больше всего сейчас волнуют?
— Больше всего меня волнует проблема воспитания кадров, педагогическая система. Это огромная проблема. Когда я был в Первой Градской простым врачом — мне надо было семью кормить, поэтому я стремился в ассистенты. Для того, чтобы стать ассистентом, надо было защитить кандидатскую диссертацию. Ассистент уже получал две ставки — педагогическую и городского врача. И статус его был совсем другой. Был стимул этим заниматься. И такой же стимул был дальше работать — стать доцентом, писать докторскую, становиться профессором.
А сейчас этот стимул исчез. Сейчас обратная ситуация. Вот смотрите: ассистент получает у нас, скажем, 18 тысяч. Это молодой человек. Раньше это воспитание начиналось в кружке. Потом мы старались из этого кружка талантливого парня дальше двигать. Вот он доклад сделал хороший — брали его в интернатуру. Или в ординатуру. В ординатуре он позанимался — давали ему возможность написать статью или предлагали перспективную тему диссертации. Ты смотришь — он талантлив! И ты его берешь в аспирантуру. Рождается кандидатская диссертация, появляется хороший преподаватель, талантливый врач. Даже если сейчас он рождается — то что? К этому времени у него семья, у него ребенок рождается где-то лет в 25 уже, 26. Ему надо кормить семью. И он уходит. Куда? В тот же коммерческий медицинский центр. И даже если он не хочет запускать пациентов по кабинетам, ему это ставят условием, если хочешь работать и зарабатывать. Что ему делать? Ситуация безвыходная.
Или наши преподаватели сегодня — они в большинстве своем все совместители. Совместитель уже наукой заниматься не будет. А есть кафедры, где практически все, кроме заведующего, совместители. А ведь из этих ассистентов, доцентов родились профессора. Значит, мы вымрем, и я в том числе, и что останется? Пока еще прослойка есть — наши ученики, кому сейчас 50, 60 лет. А дальше? Ничего.
Вот я вам скажу: у нас 9 человек кафедра. Я потерял одного профессора, который ушел на должность зам. главного врача, на административную должность. Талантливый хирург. Он занимается сейчас ответами на жалобы. Но за хорошие деньги, по-видимому. Я потерял одного доцента, онколога, кандидата наук: ушел на должность ординатора в свое же отделение, которым раньше руководил. Я потерял еще одного доцента — молодую женщину с опытом разнообразных хирургических вмешательств. Ушла заведующей операционным блоком, сидит в кабинете, составляет расписание. Еще один молодой человек, который занимался у меня в кружке, стал ассистентом, заканчивает диссертацию — тоже ушел. Многих потеряли. А приобрести — некого. Воспитать человека, хирурга, педагога и перспективного ученого — это же надо время. Понимаете?
— Почему этой проблемы не было раньше?
— Да она была раньше. Но её было проще решить. Сейчас невозможно.
— Как быть?
— А вы посмотрите на портреты на моих стенах. Где все эти люди учились? В советских медицинских институтах. Здесь они выросли в крупнейших профессоров, которые руководили целыми направлениями. Они выросли у нас, по нашей системе, которая существовала в стране. А сейчас? Мы пытаемся перенимать какие-то западные системы — Болонскую, какую-то еще. Зачем, если была своя? Причем те, кто создает учебные планы, очень далеки от этих проблем. Они не понимают, скажем, что клинические дисциплины — это особая статья. Подчас системой руководят непрофессионалы. В этом беда. Это не только в медицине. Везде.
Вот, скажем, я оперирую больного. Тут же, в операционной, находятся мои студенты. Я их учу при этом? Учу. Но мне говорят: у вас же график работы на кафедре, скажем, с 9 до 16. Как же вы оперируете утром? Нельзя! Чтобы профессора допустить к операции — это целая история. И формально всё верно. А на деле — абсурд. Достучались до Путина, чтобы решить эту проблему.
— То есть для того, чтобы решить такую проблему, надо идти к Путину.
— Вопрос был поднят на заседании Народного фронта в присутствии президента России. В итоге появилась такая формация — университетская клиника. Суть такая: университет, горбольница и Департамент здравоохранения заключают договор. Согласно ему, больница выделяет ставки для совместительства кафедральных сотрудников с тем, чтобы у них были юридические основания для лечебной деятельности. Лично я как завкафердой медуниверситета оформлен на четверть ставки городского врача. Казалось бы, теперь можно лечить и оперировать законно.
Однако есть категория операций, относящихся к ВМП — высокотехнологичной медицинской помощи. Бюджет оплачивает их больницам по повышенной ставке. При этом операционная бригада получает от 30 до 50 процентов от этой суммы. В нашей клинике это операции на сонных артериях или аневризмах аорты, их выполняет самый квалифицированный сосудистый хирург, профессор кафедры. Так вот, ему за операции по ВМП не платят. Ему говорят: вы по графику работаете на горбольницу во второй половине дня, а операция была сделана утром. Формально — правы. А по сути? Правда, такая ситуация, как я узнавал, не везде. Есть, где платят.
В общем, нелепость на нелепости. Все время приходится выкручиваться, а порой и воевать в этих ситуациях. Вот мы с вами говорили, что мы сделали по всем проблемам за свою жизнь в хирургии сосудов, желудка, поджелудочной железы, в инфекции и так далее. И говорили, что было 300 коек и пять отделений. А что сейчас? Два отделения. 120 коек. И те с боем отстояли. И как воспитывать молодежь? Это даже не нелепость. Это вредительство. Равнодушие. Потому что основным стало — «зарабатывайте деньги».
Страховая медицина всюду есть. Это нужно и правильно. Но страховая медицина может быть разной. Наш же путь, когда сокращают койки, и классные врачи уходят не от хорошей жизни, — это путь в никуда, в тупик. Больных меньше не становится, их становится даже больше. Поэтому проблема таким образом не решается, она усугубляется.
— Игорь Иванович, однажды к нобелевскому лауреату Петру Леонидовичу Капице подошел журналист и говорит: у вас такой знаменитый сын, всем известный телеведущий. А Капица был человеком со сложным, жестким характером, и он ответил: «Сын у меня просто известный, а знаменитый — я». Вам эта история что-нибудь напоминает? У вас бывало такое, когда вам говорили, что у вас знаменитый сын — телеведущий Иван Затевахин?
— Я пережил несколько позиций в этом отношении. Когда он рос, говорили: Ванин отец — академик. А потом стали говорить: Игорь Иванович — это отец Ивана. Да, в какой-то момент он стал популярнее, чем я.
— Ваш сын — это одно из немногих, если не единственное доброе и умное лицо на нашем телевидении. Вы вообще довольны детьми? Кто-то из них пошел в медицину?
— У меня их трое — два сына и дочка. Дочь косметолог. Но она пошла не по моим стопам, а скорее по стопам матери, царствие ей небесное. Она работала в Институте красоты на Калининском проспекте. Когда-то это учреждение было знаменитым, а сейчас оно кануло в Лету. Зато косметологические центры на каждом углу. Что там за кадры — неизвестно. А тогда целая школа была…
— Иван — биолог, кандидат наук. А младший сын чем занимается?
— Он полковник, спецназ.
— Выходит, пошел по стопам деда?
— Да, пошел. Две чеченские войны. Медаль за отвагу. При этом окончил медицинский институт и даже ординатуру по неврологии. Но не пошло у него. Я не стал уговаривать. Хотя для того, чтобы поступить в медицинский институт, он у меня работал в операционной санитаром. Оканчивал школу рабочей молодежи, потом пошел на рабфак.
— Не обидно? Столько надежд…
— Нет. Обиднее, когда человек занимается не своим делом.
— А Иван? Ведь то, чем он занимается, не совсем наука, а популяризация. Так же, как было у Сергея Петровича Капицы.
— Сейчас телевидение изменилось. Оно ведь не было таким и задумано было не так. Поэтому то, что делал Ваня, изначально было прекрасно. Как и «Очевидное-невероятное» в свое время. А потом передачу «Диалоги о животных» задвинули на неудобное время, затем вообще отменили. Нет её больше. А жаль.
— Недавно я была в Муроме, в доме-музее Зворыкина — изобретателя телевидения. Там очень интересную фразу прочитала, ему принадлежащую: «Лушее, что есть в телевизоре, — это кнопка выключения». Это он уже в конце жизни сказал.
— Согласен. Понимаете, я очень часто встречаюсь с людьми, которых можно назвать интеллигенцией. Так вот, все они были в восторге от передачи «Диалоги о животных». Мне тоже нравилось. И не потому, что Ваня — мой сын.
— Передача и правда была чудесная. И ваш сын источал любовь к животному миру.
— Это было искренне. Он ненавидит охоту, очень добрый. Вот такой по жизни. Вообще-то говоря, он дельфинолог, специалист по психологии животных, по их поведению. И диссертация у него на эту тему. Сейчас в это время идет что-то другое, более прибыльное, наверное. Это просто кошмар. Не остается хороших передач, которые стоит смотреть. Наверное, потому что приходят люди, которые преследуют другие цели. Телевидение — это емкое финансовое предприятие. Это не творческие люди, которые заботятся о развитии нации. Они заботятся совсем о другом. И так во всем, буквально во всем.
— У нас получилась грустная беседа. Ест ли у вас какой-нибудь повод для оптимизма?
— Да, есть. Я недавно был в Краснодаре у профессора Владимира Порханова. Он директор института торакальной хирургии, объединенного с областной больницей. В построении этой клиники очень помогал Ткачев, который был тогда губернатором. Финансово помогал. И я увидел то, что сделано, и то, что делается. Это грандиозно! Я ему сказал огромное спасибо за то, что в России есть такой форпост заботы о здоровье человека. И что есть такой человек, который всё это делает. В краевой больнице — 170 пересадок сердца! И трансплантация печени, и все остальные оперативные методики, какие есть в мире. Оборудование прекрасное. Чистота — я просто такого нигде не видел. Он, конечно, фантастической энергии человек. Но и деньги, конечно, туда вложены огромные. Без этого ничего бы не было. Надо это понимать. Ему второму среди врачей нашего сообщества присвоили звание Героя труда России. Первый — это А.Н. Коновалов, директор Института нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, хирург мировой величины. Есть и другие примеры.
— То есть кадры у нас есть. Нет должного внимания государства.
— Такие люди — это всегда отдельные личности. Они на вес золота. Это счастье, если такой попался. Они создают свои школы, двигают вперед науку и практику. Их надо ценить, поддерживать. Вот Порханов по всей стране собирал лучших хирургов. И губернатор его поддержал. Так родилась школа. Это разумный и эффективный подход к развитию здравоохранения и реальной помощи населению. И ничего не будет меняться к лучшему, если не понять, что действительно важно, а что нет.
Беседу вела Наталия Лескова