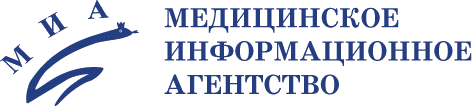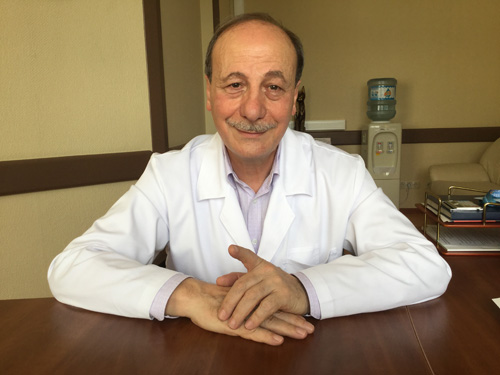Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Х.П. Тахчиди, возглавляющий научно-клинический центр офтальмологии ФГБОУ ВО ВНИМУ им. Н.И. Пирогова, созданного на базе ФНКЦ оториноларингологии ФМБА Минздрава РФ, провёл уникальную операцию по имплантации бионического глаза слепому пациенту. Это настоящий прорыв в биомедицинской науке, который откроет нам принципиально новые возможности и поможет разгадать тайны зрения, уверен ученый. О том, что дают нам новые технологии, а также о том, как он познакомился со своим великим учителем, академиком С.Н. Фёдоровым, почему важен блеск в глазах и почему людям не нужна полностью безопасная жизнь, — наш разговор с Христо Перикловичем.
— Христо Периклович, предлагаю начать с главной сенсации — бионической операции по восстановлению зрения слепому пациенту, которую вы недавно провели впервые в нашей стране. Расскажите, пожалуйста, что это за операция и почему решили ее сделать.
— Мечта всего офтальмологического сообщества — научиться возвращать зрение тем людям, которые безнадежны. В частности, слепым. У нас есть такое понятие, как абсолютная слепота, когда человек не видит вообще ничего, и это пока неисправимо. И есть относительная слепота, связанная с исправимыми вещами. В этой группе мы, конечно, стремимся помочь людям, у которых всё совсем плохо. В нашем случае мы работали на границе слепоты, когда человек еще сохраняет светоощущение, но с неправильной проекцией, то есть он не улавливает, с какой стороны идет свет. У таких пациентов нет предметного зрения, но наличие светоощущения говорит о том, что какие-то волокна и клетки еще функционируют. И вот мы сосредоточились именно на этой группе больных, пытаясь восстановить им зрение и понять, как всё это работает. Ведь до сегодняшнего дня у нас представление о том, как работает зрительный анализатор в целом, достаточно теоретическое. Эти поиски идут в нескольких направлениях. Одно из направлений — это создание электронных инженерных систем с использованием современной информатики. Бионический глаз — это сложное инженерное устройство, а точнее — целый комплекс Argus-11 от американской компании Second Sight, известной тем, что она выпускает кохлеарные имплантаты, с помощью которых возвращается слух.
Кохлеарная имплантация — это методика восстановления слуха, уже поставленная на поток. И теперь появилась новая задача — попытаться сделать нечто подобное с глазной патологией. Но эта задача, конечно, гораздо труднее осуществима, потому что строение сетчатки значительно тоньше и сложнее, чем слуховой нерв. «Бионический глаз» — это начало такого пути.
— В мире уже проводились аналогичные операции?
— Да. На сегодняшний день с этой моделью произведено несколько десятков операций. Фирма с особой тщательностью отбирает клиники, где эти операции можно проводить. Это наиболее высокотехнологичные клиники с самым современным оборудованием и авторитетным профессиональным составом. Всё это важно. Потому что на этом этапе разработки нужен достоверный ответ, работает система или нет, и как она работает. Человеческий фактор должен быть сведен к нулю. Идет также очень тщательный отбор больных. Всё буквально тестируется, причем, если брать нашу историю, тестировали клинику в общей сложности около года, прежде чем было дано добро. Операция такого рода делается в считанных странах, считанными хирургами, в считанных клиниках. Все это эксклюзивные вещи, потому что это самое начало освоения уникальной процедуры, появившейся буквально на наших глазах.
— И какие результаты?
— Результаты есть. Показывают первых прооперированных больных, демонстрируют фильмы, как они видят после операции. Но мы должны четко понимать, что говорим о совершенно новом зрении. Это не зрение, привычное нам с вами. Это зрение, уходящее в эволюцию на уровень примитивных организмов, когда зарождался наш зрительный анализатор. Это черно-белое видение в виде композиции световых пятен различной конфигурации. Их количество и конфигурация зависит от степени поражения сетчатки и от особенностей нахождения электрода данного конкретного пациента.
— А что такое зрение дает?
— Это дает социальную реабилитацию. После того, как мы имплантируем этот чип и весь бионический глаз, проходит обычный послеоперационный период заживления разрезов и так далее. На это уйдет порядка двух недель. Затем запускается электронное оборудование, и начинается достаточно долгий, занимающий несколько месяцев процесс реабилитации, имеющий определенные циклы. Скажем, человек на бытовом уровне обучается тому, что он видит. Ему говорят: вот посмотрите в этом направлении — он смотрит. Что вы видите? Он говорит — композицию из таких-то световых участков. Ему говорят: запомните, эта световая композиция означает окно. Или дверной проем. Он запоминает. Потом он садится за стол. Что вы видите? Он описывает. Ему говорят: это тарелка.
— Иначе говоря, он создает такой сложный язык световых кодов, подобный языку мимики и жестов у глухонемых.
— Совершенно верно. Таким образом он получает информацию, и это информация зрительная. Ту же самую, что у нас с вами. Только у нас с вами количество пикселей значительно выше, чем у него.
— Означает ли это, что последующие разработки в этом направлении будут все совершеннее?
— Безусловно. Мы ответили на самый главный вопрос: это возможно? Да, это возможно! Через микрокамеру мы сумели передать информацию в мозг, и тот ее расшифровал. Это дает возможность человеку ориентироваться в пространстве. Система работает. Остальное дело времени. Помните ли вы, как выглядел ваш мобильный телефон лет 10–15 назад?
— Прекрасно помню. Первый мой мобильный телефон 20 лет назад был огромный и тяжелый.
— А ведь прошло не так много лет — и такие разительные перемены. Это означает, что теперь будут идти работы над камерой с более высокоразрешающими возможностями, над приборами, которые преобразовывают сигнал картинки, электродами, который тоже будет совершенствоваться. Сегодняшний момент знаменателен как раз тем, что мы вошли вот в это пространство исследования зрительного анализатора. У нас появился инструмент, с помощью которого мы не просто помогаем больному адаптироваться к жизни, но еще получаем возможность изучения — а как же это все происходит?
— Наверняка вам помогали инженеры, программисты, специалисты по компьютерной технике. Ведь вы же все-таки врач, а не инженер.
— На самом деле это работа огромного коллектива. Причем самого разнообразного. Начиная с того, что стоимость этого прибора — около 10 миллионов рублей. Для того, чтобы ее приобрести, потребовалось привлечь фонды. Помогли благотворительные фонды слепоглухих «Искусство, наука и спорт», «Со-единение», АНО «Лаборатория Сенсор-Тех», ООО «Торговая компания «Медтехника» и другие. Они не только нашли деньги, но получили разрешение, завезли изделие в страну, растаможили, организовали первичный отбор пациентов. Этим тоже занималась определенная группа — отфильтровывала, находила новых. Отбор был очень строгий. Учитывалось буквально всё.
— Вы сами в этом процессе участвовали?
— Безусловно. На конечном этапе мы пересмотрели для этой операции 15 потенциальных кандидатов.
— Мне кажется, это похоже на отбор первого космонавта. Почему выбор пал именно на этого человека?
— Сравнение с первым космонавтом абсолютно точно. Там было важно буквально всё — отсутствие серьезных сопутствующих патологий, возраст, определенные параметры восприятия света. А еще крайне важен его внутренний настрой. Понимаете, врачевание — это обоюдный процесс. Если врач и больной партнеры, если они объединили усилия и хотят победить, то шансы заметно выше.
— То есть это человек с высокой мотивацией?
— Да, в том числе.
— А он видел когда-нибудь?
— Да, конечно. Он был раньше зрячим. Его диагноз — пигментная дистрофия сетчатки, которая возникает у многих мужчин в достаточно раннем возрасте, реализуется к 35–40 годам в слепоту, а дальше начинается жизнь во мраке. Сейчас ему 59. Это обычный человек, фрезеровщик из Челябинска. Хороший человек, простой, открытый, общительный, очень позитивно настроенный.
— Как вы считаете, ему повезло? Можно так сказать?
— Это непростой вопрос. Повезло Гагарину или нет?
— Повезло, что приземлился. Но могло случиться иначе.
— Вот именно. Поэтому ответить однозначно не берусь. Но вообще, конечно, он первопроходец, и операция прошла более чем удачно.
— Как его самочувствие и самоощущение?
— Абсолютно нормальное. Он ходит, ест, бреется сам. Здесь он с дочерью. Она ему помогает. У него очень хорошо идет послеоперационный период. В общем, все замечательно. Пока. Тьфу-тьфу-тьфу.
— Когда вам предложили сделать такую операцию, что это для вас было — авантюра, вызов?
— На самом деле эту авантюру придумал директор ФНКЦ оториноларингологии, на базе которого мы работаем, Николай Аркадьевич Дайхес, мой друг и коллега. Имея большой опыт по работе с кохлеарной имплантацией и, работая с этим же производителем, он меня на это дело спровоцировал. Безусловно, я слышал об этом, читал, но детали, технологию, глубокую суть этой технологии я не знал. Поэтому в начальной фазе отношение было настороженное. И вы правильно сказали о том, что это во многом инженерная вещь. Поэтому нам очень помогли инженеры. Они не просто присутствовали во время операции — они нас готовили и сопровождали. Мы вместе тестировали систему пять раз по ходу операции.
— Именно поэтому операция так долго продолжалась — шесть часов?
— Безусловно. Мы выполняли её поэтапно. Осуществляется этап — и обязательно тестируется система. Потому что все элементы очень тоненькие: где-то что-то перегнул, сжал пинцетом или каким-нибудь другим инструментом — всё может надломиться, провод может надкуситься, и прервется изображение где-то в кабеле. У нас работала анестезиологическая бригада, хирургическая бригада, сестринская бригада, инженерная бригада. Мы еще имели инженеров, которые обслуживали медицинскую технику, потому что нельзя было допустить сбоев. Представляете, сколько народу? Учитывая трудоемкость вмешательства, колоссальное разнообразие персонала. Сама подготовка к такой операции и ее производство — это огромный труд большого коллектива. Поэтому одного человека выделить в этой истории — неправильно. Да и невозможно. Тем и приятнее результат. Пока чисто хирургический: нам удалось все это состыковать, и нигде никаких промашек не допустить. Всё срослось. Хотя сама операция многоплановая. То есть ты одно сделал, потом надо сделать второе, третье, а потом всё это соединить вместе. И только где-то на пятом или шестом действии получается то, что мы хотим.
— Вы чувствуйте себя сейчас первопроходцем?
— Ну, как сказать. Есть ощущение, что мы это сделали, как сейчас говорит молодежь. Естественно, повышенный фон удовлетворенности. Но осознание свершения чего-то запредельного пока не пришло. Вы знаете, чем отличается профессиональный врач от обычного? Ты никогда не удовлетворен своим результатом.
— Это про любого профессионала можно сказать.
— Совершенно верно. Но во врачевании это проявляется, пожалуй, наиболее ярко. Медицина занимается нестандартным объектом. Каждый человек уникален. Так же и глаз — одинаковых нет. Каждый глаз — это загадка. Причем загадка высшего разряда. Это творение чье-то, мы не знаем чьё. Уникальное, очень тонкое, которое мы знаем на 5–10%. Если не меньше. Поэтому вот это ощущение сопричастности чуду сидит в каждом профессиональном враче, и оно должно сидеть, потому что это основа развития специалиста. Без этой компоненты человек не растет. И если вы только начинаете считать, что да, вам уже всё удалось, вы уже всем владеете, а такое приходит однажды абсолютно всем врачам, то обязательно через очень небольшое время вы неожиданно столкнетесь с ситуацией, когда вновь не получится. И второй раз не получится, и третий. Возникает ощущение, что вы ничего не знаете. То есть — совсем ничего.
— Как говорит, опять же, молодежь — будет облом.
— Да. А когда у тебя все получается, то тебе хочется расширить показания, взять какие-то более сложные случаи, которые не совсем вписываются в твою технологию, но очень хочется помочь этим безнадежным больным. Пробуешь, раз — получилось. Хорошо. Двигаешься дальше еще и еще, и ты, наконец, доходишь до той границы, когда технология не работает. И снова сидишь, льешь литры адреналина, думаешь, мыслишь, как же это преодолеть. Так появляются новые технологии. Я всё это давно прошёл, поэтому очень трезво оцениваю наши нынешние возможности, Они не то что не безграничны — мы в самом начале пути. Да, я доволен достигнутым результатом, но это ощущение, будто забрался на очередную ступень — а мысли уже заняты другой, и надо двигаться дальше, выше. Впереди новая ступень.
— Христо Периклович, вы руководите научно-клиническим центром офтальмологии при Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова. Как давно существует этот центр?
— На самом деле я здесь в двух ипостасях. С одной стороны я директор научно-исследовательского центра офтальмологии. Зарожден он в 2015 году, в декабре. Мы продолжаем развивать те направления, которые много лет развивали, никогда не останавливались. Да, у меня была пауза. Она интересна тем, что дала возможность совершенно под другим ракурсом посмотреть на ситуацию, углубиться в другие проблемы, познакомиться с чем-то новым и для меня интересным. Потому что все, что ни делается, говорят, к лучшему.
— Так и есть?
— Я придерживаюсь этой философии. Считаю, что судьба ведет человека. Испытания, которые нам выдаются, надо преодолеть и жить дальше. Жизнь состоит из циклов: что-то получается, что-то стыкуется и, в общем-то, в какой-то момент происходит прорыв — ты получаешь возможность реализоваться.
— А вторая ипостась — это, видимо, ваше преподавание?
— Я работаю больше в административном плане. Я проректор по лечебной работе РНИМУ им. Н.И. Пирогова, поэтому моя работа преимущественно заключается в организации учебного клинического процесса. То есть моя работа — это клинические базы и организация работы студентов, интернов, ординаторов, аспирантов, кафедр на этих базах. И это необычная работа, которая позволяет познакомиться с миром медицины разных специальностей. У меня никогда раньше не было возможности с этим разнообразием познакомиться, а теперь я это увидел и кое-что интересное оттуда почерпнул для себя.
— Вашему офтальмологическому научно-клиническому центру что-то еще, кроме этой замечательной операции, удалось сделать?
— Очень многое. Мы открыли великолепную диагностику. У нас самые современные, самые последние образцы оборудования. Мы открыли великолепный лазерный хирургический блок. У нас работают все виды лазеров, какие только есть в мире для производства операций. У нас первоклассный операционный блок, соответствующий высшим мировым стандартом, выдержавший жесткую экспертизу наших западных коллег.
Должен сказать, что самый тонкий инструмент в хирургии — лазерный луч. Сегодня мы работаем на уровне микроткани, на уровне клеточных взаимодействий. На самом деле скальпель — это самый грубый инструмент, какой только остался в медицине. А мы должны двигаться в сторону более тонких вещей. Наша цель — это работа с клетками.
— Помню, как вы мне говорили, что цель хирургии — это отсутствие хирургии как таковой, чтобы вообще не было разрезов, боли, крови.
— Да. Вот, собственно, мы к этому и движемся. И это бесспорно, лазерный блок — то направление, в которое переливается обычная офтальмохирургия. Если раньше он занимал несколько процентов, то сегодня — нишу порядка 25–30%. Для того, чтобы производить хирургию такого уровня, нужно соответствующее лазерное и прочее оборудование, самые последние первоклассные образцы. Причем в нашем конкретном варианте, при нашем колоссальном опыте, мы очень грамотно собрали всю технологическую цепочку оборудования. Потому что очень часто в наших клиниках закупается самое дорогое и качественное оборудование, но оно не стыкуется между собой, не создает технологической цепочки.
— И часто, насколько я понимаю, люди не умеют им как следует пользоваться.
— Соответственно, они и не умеют пользоваться. Так вот, мы закупали оборудование под конкретные технологические цепочки. Слава Богу, я хорошо представляю, что нам нужно. На сегодня ключевой зоной работы офтальмологов именно в научном плане является все-таки сетчатка. И в этой части у нас самый мощный центр, который занимается проблемами сетчатки, в нашей стране. Мы тут безусловные лидеры. И я думаю, что в ближайшем будущем мы кое с кем поспорим еще и в мировых масштабах.
— Христо Периклович, вы говорите о том, что офтальмология — это пионерская специальность, которая идет впереди всей медицинской науки, фактически стирая грань между терапией и хирургией.
— На самом деле офтальмология — одна из тех специальностей, где имеется микс медицинских направлений. Здесь и хирургия, и терапия в одном лице, и педиатрия, поскольку мы лечим и детей. Почему я в свое время и выбрал офтальмологию — именно по этой самой причине. Это одно из неоспоримых преимуществ нашей специальности. Синтез самых мощных направлений в медицине. Причем каждое из них имеет свои плюсы и свои минусы. Терапия — это глубокая философия, размышления, расшифровка механизмов болезни, но при этом мы не видим, что происходит в очаге недуга, какие там изменения, а это очень полезная информация. Мыслительный процесс растянут во времени, а это приводит к тому, что на патологический процесс наслаиваются десятки других, и он размывается, становится многообразней, и врач уже не понимает, что тут находится в центре событий, а что стало следствием.
Хирургия дает колоссальную сиюминутную информацию, визуальную, точную, и она требует очень быстрого мышления, как блиц в шахматах. Времени размышлять нет — надо действовать, но действовать точно. Работа в режиме быстрой мыслью — это особая специфика, которая рождает совершенно уникальные решения. Они могут возникать только в режиме экстрима, и далеко не каждый врач способен к такой работе.
— Но, в то же время, обычная хирургия, даже малоинвазивная, разрушает ткань. Правильно ли я понимаю, что это не касается офтальмологии?
— Да, правильно. На самом деле вся хирургия сейчас идет в сторону микромира. Чем меньше мы повреждаем, тем быстрее и полноценнее все восстанавливается. Сегодня там уже не распахивают живот по срединной линии, а только делают микроразрезы для эндоскопа. И мы видим этих больных, которые после холецистэктомии вечером встают и гуляют. Хотя в прошлые времена такие операции предполагали разрез на передней стенке брюшной полости в полживота, который потом заживает месяцами. То есть мы все движемся туда, но впереди, конечно, офтальмология, потому что она всегда работала на микроструктурах, всё делала миниатюрно, и уровень хирургии общей практики отстает от нас на десятилетия. Мы ушли в совершенно другую хирургию. Вы правы: ее уже и хирургией назвать нельзя, потому что в ней нет разрезов, нет швов, мы работаем через микропроколы, которые самогерметизируются и не требуют зашивания.
— Правда ли, что вы научились так деликатно воздействовать на ткань, что она этого «не замечает»?
— Вот мы с вами сидим, разговариваем, а в это время происходит физиологический обмен клеток в ткани — часть разрушается и утилизируется, на их месте возникают новые. Но мы этого никак не ощущаем. Существует некий порог, в пределах которого происходит постоянное самовосстановление ткани, и мы не ощущаем этого никоим образом. А вот за пределом этого порога возникают поломки — мы их ощущаем в виде боли, воспаления, каких-то еще проявлений. Так вот, мы добрались до этого порога и перешагнули за него. Находясь там, мы снимаем слой клеток, допустим, с роговицы с помощью лазера, а она этого не чувствует. Понимаете? То есть это происходит где-то в пределах физиологического самообновления клеток ткани. Вот это мечта, к которой мы стремимся, — манипулировать клетками так, чтобы человек в принципе от этого не испытывал никаких страданий. Только облегчение.
— Давайте вспомним вашего великого учителя, академика Святослава Николаевича Федорова. В августе ему исполнилось бы 90 лет…
— Да, 8 августа. Мы с ним познакомились, когда он уже работал в Москве…
— И был всемирно известен.
— И был всемирно известен, а в нашей стране нелюбим, гоним, всё время находился под прессом тогдашней офтальмологической столичной элиты. И так было всю его жизнь. Он был человеком с периферии, пробивал себе дорогу сам. Учился в Ростове, потом работал в Чебоксарах, где изобрел искусственный хрусталик. Хотел защищать диссертацию, но его обвинили в шарлатанстве, собирались даже лишить врачебного диплома. Потом кто-то из позитивно настроенных руководителей решил «сослать» его от греха подальше в Архангельск, на кафедру глазных болезней. И переезд туда в какой-то степени спас его от дальнейших уничтожительных действий. Там у него появилась возможность более спокойно работать над проблемой имплантации искусственного хрусталика. Здесь его нашел журналист А. Аграновский из газеты «Известия». Тогда печатное слово много значило. Появились две большие статьи. К нему стали обращаться большие люди, одним из которых был начальник Госплана СССР, знаменитейшая личность. Федоров прооперировал кого-то из его близких. А потом этот начальник посодействовал его переезду в Москву. Фёдорову дали небольшую лабораторию при городской больнице. Потом она немножко расширилась, потом еще. Это всё происходило с боями, с войной, которая не затихала всю его оставшуюся жизнь.
— Неужели даже в последние годы не было всеобщего признания?
— Последний год его жизни — это было очередное истязание, но об этом позже. Постепенно его профессиональный авторитет стал расти, он стал узнаваем в кругах власти. И в один прекрасный момент силы, которые были на его стороне, уже могли продавить такую идею, как создание Института микрохирургии глаза на Бескудниковском бульваре (первое, старое здание). Тогда министром здравоохранения был Б.В. Петровский. И он рассказывал мне о том, как его вызвали в Политбюро и задали вопрос: в Москве уже есть два института глазных болезней, так зачем же нам еще третий? На что Петровский ответил: это первый в мире институт микрохирургии глаза. И это было правдой. Так институт начал строиться.
А потом в новый институт к шефу стали ломиться пациенты со всей страны и из-за рубежа. Стояли огромные очереди, как в мавзолей. Есть фотографии, на которых по всему бульвару тянется живая очередь.
— То есть слава пошла по всей Руси.
— И в это время Николай Иванович Рыжков, который был тогда премьер-министром, тоже заинтересовался этим вопросом. У его отца случилась катаракта, он его у Фёдорова прооперировал, посмотрел на всю эту историю, ну и назначил шефу свидание. Тот приехал и говорит: «Николай Иванович, а вы не могли бы помочь мне построить еще один корпус?» «Конечно, Святослав Николаевич, — отвечает премьер, — но что это даст? У вас какая по времени сейчас очередь на операцию?» «Около 3,5 лет». «А на сколько сократится ваша очередь, если я вам построю корпус?» «Ну, на пол года». «Так это же не решение проблем. А если мы построим по стране несколько таких клиник — это решит проблему?»
— То есть сеть таких клиник — это была идея Рыжкова?
— Да. Идея, упавшая на благодатную почву. Шеф весь расцвел и забурлил. Это как раз идея для его энергетики. Вот так родился проект МНТК «Микрохирургии глаза». Было это в 86-ом году, 24 марта.
— Вы ведь руководили одним из его филиалов…
— Да, Екатеринбургским. С шефом мы познакомились в 81-м году. Он тогда приехал в Екатеринбург, тогдашний Свердловск. Для изготовления у нас, на наших оборонных заводах, микрохирургического инструмента. У нас ведь очень мощные оборонные заводы, где тонкая механика. И вот после того, как он посетил электромеханический завод («три тройки»), изъявил он желание посмотреть нашу кафедру и клинику глазных болезней, где я тогда работал. Так как я был один мужик на кафедру и два глазных отделения — естественно, все встречи-проводы были мои. Операционный блок был мой, я за него отвечал. Ну, и все проводимые экскурсии висели на мне. Я Фёдорова встретил. Он изъявил желание посмотреть операционную. Пришли. Там стоял самодельный, изготовленный мною вместе с инженерами операционный стол. В то время в хирургии уже появились операционные микроскопы, и хирурги оперировали сидя. А чтобы оперировать сидя — нужен стол соответствующей высоты, при этом нужна фиксация для рук хирурга, фиксация для головы больного, чтобы она не двигалась во время операции. А столов промышленность еще не выпускала. И каждый решал эту проблему самостоятельно, как мог. В общем, я сделал стол. Шеф пришел, посмотрел — а это что такое? Я говорю: так и так, сделали на таком-то заводе. Он говорит: как интересно! А как ты решил проблему подголовника? Я говорю — да вот там сделал то-то и то-то, но все это под столом не видно. И тут столичный профессор, у которого была протезирована нога, вдруг ложится на пол, залазит под стол и начинает крутить гайки и все прочие штуки, спрашивая меня про каждую деталь. А это для чего, а это для чего? Я, конечно, был в полном шоке от этого действа: такой величины человек и вот так, по-простому, по-человечески, себя ведёт.
— Он всегда проявлял такую живую заинтересованность?
— Абсолютно. Это было его естество. Это не показуха. Да и перед кем? Мне и 30 тогда не было. С этого момента он для меня существовал как человек особой категории. До конца его жизни мы сохраняли добрые отношения, хотя, в общем-то, были эпизоды, когда и спорили, и не соглашались друг с другом. Но он, безусловно, всегда был учителем, высшим авторитетом. Это уникальная личность, и судьба подарила мне возможность работать с ним.
Так вот, в 86-м году, в марте было подписано постановление о создании МНТК «Микрохирургия глаза». А в декабре я был привлечен в этот проект в качестве потенциального директора. Он меня сразу пригласил. В декабре был партийно-хозяйственный актив, на который съехались представители власти со всех городов, где должны были строиться филиалы. 12 городов. Был представитель облисполкома, обкома партии, облздрава и местных властей — горком, горисполком и горздрав. Там наши кандидатуры и утверждались. А потом мы начали работать над этим проектом. В апреле я был назначен директором строящегося в Свердловске филиала. Собственно, только начали рыть котлован. Но построили очень быстро. Так что проект МНТК «МГ» делался при активнейшем нашем участии, причем Екатеринбургский филиал всегда был лидером. Это была школа, в которой воспитывались директора второго поколения. Мы вошли в строй седьмыми из двенадцати. Но ко мне постоянно присылали ребят из филиалов, где менялись директора, появлялись новые, и их надо было обучать управленческим премудростям.
— А почему вы сказали, что до конца жизни Фёдоров был гоним? Такая слава, такой размах…
— В 90-е годы шеф занимался политикой. Был депутатом нескольких созывов, баллотировался в президенты.
— Зачем он занимался политикой? Чтобы иметь возможность повлиять на ситуацию в стране?
— Шеф был гениальным человеком. В первую очередь, офтальмологом. Это бесспорно. Но он был абсолютно незаурядным человеком и в остальном — отличный организатор, управленец. У него была масса других достоинств, но вот то, что было абсолютно неоспоримо — он был патриот. Причем не бумажный, не какой-то салфеточный, а реальный, по жизни. Он хотел лучшего будущего для своей страны, хотя хлебнул от неё по полной.
У него был репрессирован отец, командир кавалерийской дивизии, отсидел по полной программе. Фёдоров был сыном врага народа. Ему приходилось по жизни очень несладко. Но в нём жила искренняя любовь, преданность к своей стране. Так вот, шеф пошел в политику за одним вопросом. Когда была создана МНТК «МГ» и мы начали работать, появились результаты и наши методы показали свою высокую эффективность, ему естественно захотелось все эти достижения перенести на масштабы страны. Как раз был конец 1980-х — начало 1990-х, перестройка, бурное развитие идей, мыслей, новых технологий. И шеф решил пойти в политику, чтобы привнести туда наши новые идеи.
— Не получилось?
— Тогда формировались рыночные отношения, а шеф всегда проповедовал народный коммунизм, народное предприятие, то есть социальная составляющая всегда доминировала в его концепциях. Не капитализм с его системой «человек человеку волк», а наоборот — забота о людях. И его идеи были очень популярны. Был даже момент, когда шеф должен был стать премьер-министром. Он был в это время на Бахрейне, шейх пригласил его прооперировать кого-то. Тут раздался звонок. Фёдоров выслушал предложение и согласился. Но что-то потом не сработало. А в 1999-м году стало понятно, что делать в политике больше нечего, все эти прекрасные идеи не сработали, и он оттуда ушел после окончания депутатских полномочий. И вот он вернулся в институт, а его не восстанавливают в должности директора.
— Это как же?
— Оказалось, что в 1990-м году должен был выйти приказ минздрава о том, что он уходит в депутаты и за ним сохраняется рабочее место. В стране тогда царил полный бардак, и приказ не вышел. Тогда шеф издал собственный приказ, что, мол, ухожу в депутаты, но вернусь. За эту формальность зацепились, его не назначали, и началось избиение. Комиссия одна, другая, гигантский акт с массой замечаний. Налоговая инспекция, полиция, черт-те что …
— И все это не могло идти на пользу работе института.
— Это не шло на пользу государству. Всё это избиение шло до середины мая 2000 года. Полгода его не назначали. Шли проверки. Говоря жаргоном, «шили уголовное дело». Все это проходило мерзко, гадостно и гнило. Зависть…
— Мстили за его успехи?
— Да. Это была месть за успехи, за достижения, за состоятельность. Я с ним в этот период времени очень тесно общался, и об этой ситуации он мне много чего лично рассказывал. Самое интересное в этой истории — это то, что два человека из проверявшей его в 2000-м году комиссии были в 2010/2011 годах в комиссии, которая проверяла уже меня. То есть, всё то же самое продолжилось через 10 лет после его гибели.
— Вас сразу назначили руководить институтом?
— Нет. После его гибели 8 месяцев не было руководителя, все было разграблено до основания, было практически полное банкротство. Когда меня пригласил на беседу министр, то так и сказал: вот тебе банкротное предприятие, и я, говорит, не верю, что его можно восстановить. Это был Юрий Леонидович Шевченко. Очень здравый человек. Безмерно его уважаю и ценю. Вот, собственно, я ему сказал: Юрий Леонидович, дайте мне месяц, и я разложу состояние вещей. Через месяц я к нему приехал и говорю: мне надо столько-то денег, чтобы вывести институт из банкротства. Столько-то, чтобы он стал лучшей клиникой страны, и столько-то, чтобы она была конкурентна с Европой.
— Сколько же он вам дал?
— Он сказал — у меня для тебя денег нет. Я говорю — понял. Тогда договариваемся так — я работаю в правовом поле, а вы мне обеспечите год, чтобы меня никто не трогал. Через 10 месяцев я вывел эту структуру из банкротства.
— Заодно вы сделали её лучшей клиникой страны.
— И конкурентоспособной в Европе. У нас в год оперировалось до 5 тысяч иностранцев. Немцы приезжали, итальянцы, Арабские Эмираты, Кувейт и так далее. Приезжали люди с деньгами, которые выбирали нас.
— А что произошло дальше, после 10 месяцев?
— Дальше вся эта камарилья, которая «мочила» Фёдорова, притихла и стала наблюдать. Как какой-то «мальчонка», приехавший из Екатеринбурга, без денег, без связей, барахтается и пытается вытащить эту гигантскую организацию, погрузившуюся ниже ватерлинии. Ну-ну, любопытно, что у него получится. Они сидели как в цирке, смотрели за развивающимися на арене событиями, абсолютно уверенные в том, что точка невозврата уже была пройдена ранее.
— То есть поначалу не трогали.
— Да. А в 2005 году, когда меня избрали президентом общества офтальмологов России — 98% при тайном голосовании и стало ясно, что офтальмологическое сообщество выбирает «микрохирургию», они тут же очнулись. Сработал принцип Фаины Раневской «против кого дружим», и начался новый сериал «Мочилово» против «Микрохирургии глаза» им. С.Н. Федорова. Нет сомнений, что впереди нас ждут новые захватывающие сериалы.
— Гибель вашего шефа — это случайность или закономерность? Вы рассказываете — и возникает ощущение катящегося снежного кома.
— Да, есть такое ощущение. Неоднократно при разговоре он повторял одну фразу: я не представляю, что умру в постели с пилюлями под языком. Это было сказано не единожды.
— Но он хотел жить несмотря ни на что?
— Да, он был неисправимым жизнелюбом.
— То есть не было депрессии?
— Да ну, что вы. Рядом не стояло. Депрессия — это не про него. Там, где он появлялся, через 10 минут все уже сидели вокруг с отвисшей челюстью, слушали фантазии о том, как в невесомости, в космосе можно оперировать. Как дирижабль-операционная будет летать в любые уголки страны и оказывать там помощь. Один наш профессор рассказывала, как однажды опоздала на планерку, как раз в это время запустили станцию «Мир», ну и шеф с утра рассказывает: вот, наши в космосе, там невесомость, ребята плавают, а что, если нам в невесомости операционную устроить? Это ведь интересно! Ну и начинает научную фантазию какую-то изобретать на ходу, и в это время заходит профессор в конференц-зал, садится рядом, слушает, толкает соседа и говорит: а что, когда летим-то? На полном серьезе. Вот в этом — весь шеф. Он очень любил жизнь. Он приезжал в наш филиал, мы сразу: шеф, ужинать будем? — Конечно. Накрывается стол, а у нас свое кафе, свои кулинары, повара, и все знали его любимые блюда. Готовят, стараются. Он говорит: ты же знаешь, что мне нельзя много есть. Он тучноватый был, плотненький. Я говорю: шеф, это на выбор, не хочешь, откатим обратно. Ладно, говорит, вот это и это не трогай, а это наверно тоже вкусно. Ну, давай кусочек! А водочка у тебя есть? Обижаете. Это был шеф, который всеми был любим и с которым было всегда фантастически интересно. Невозможно было на него обижаться или злиться. Хотя он был человеком со спецификой.
— Жесткий?
— По крайней мере, он любил стиль единоначалия.
— А вы не такой?
— Нет. У меня командный стиль. В смысле — у меня команда. Каждый отвечает за свое дело. А он все делал сам. Во всё вникал. И его на все хватало.
— Много ходило разговоров, что его гибель была подстроена. Как вы к этому относитесь?
— История темная. Хотя при мне было завершено уголовное дело. Мне принесли два тома, из которых следовало, что лопасть во втулке проржавела, сломалась во время полета и разбила кабину. Все происходило следующим образом. Мы поехали поездом в Тамбов праздновать десятилетие тамбовского филиала. Тамбовский филиал — последний, 12-й в этом списке. У нас такая традиция была: каждый пятилетний юбилей мы отмечали. В каждом филиале собирались, подводили итоги, и в этом была заложена корпоративность. Мы поехали в Тамбов, а он решил полететь вертолетом. Причем мы билет ему взяли. Нет, я полечу вертолетом. Ну, хорошо. Значит, мы приезжаем, ждем, шеф должен прилететь вечером, часа в четыре, а его всё нет. Начались дерганья, беготня, звонки. А тамбовский филиал имеет два входа, один парадный, а другой сзади. Вдруг директор тамбовского филиала говорит — он должен подъехать к заднему входу. Ну, и вся эта толпа с пирогами ринулась туда, а я по какой-то причине остался у главного входа. И прошло где-то полчаса, смотрю — «Жигули» такие потрепанные подъезжают, «копейка», открывается дверь и вываливается шеф. Я у ворот один. Шеф, говорю, откуда вы?! Да, говорит, сели в поле, что-то у нас там неисправно. Я, говорит, вышел на дорогу, смотрю — мужик едет, я махнул рукой. Он меня привез и даже денег не взял. Пока мы с ним разговаривали, все увидели, развернулись, прибежали. Это было в первый вечер.
Вертолет всё это время находился на поляне в сельхозполе за Тамбовом. Потом ребята что-то там подладили, прилетели — сели на территорию филиала. Я с ними поговорил, что там случилось. Да нет, все нормально, говорят, мы там сделали всё, что надо. Ну, хорошо. На следующий день им дали коридор вылета в 5 вечера. Пошли его провожать. Он садится в вертолет, поднимается, делает круг вокруг филиала, открывает форточку, машет нам рукой…
— И это был последний раз, когда вы его видели живым...
— Да, все машут, и он улетает в направлении Москвы. В 7 часов вечера мы садимся на поезд и уезжаем в Москву. Приезжаем в 6 утра, идут смурные водители, нас встречают. Мы говорим: «Что такое? Небось, шеф приехал и надавал вам?» «А вы чего не слышали? — отвечают. — Шеф разбился». Я, честно, не поверил. У него бывали такие фишки: где-то сел и завалился к друзьям. Крынку молока возьмет, прилетит домой. Да нет, говорят, в новостях передали. Так и не стало шефа.
— Рядом с нашим домом, в Братцево, стоит часовня, воздвигнутая на месте его гибели.
— Да, здесь он и упал.
— У вас не было предчувствия тогда, в Тамбове?
— Нет. Ничего. Абсолютно. Хотя мы ему говорили, что не надо лететь, раз была какая-то неисправность. Но с ним сложно было спорить. А с ним полетел еще молодой парень, его помощник Саша. Он у него слайды показывал на презентациях. Двое детей у него осталось, малышей. Тоже погиб. Мы вечером поехали на экскурсию в имение Рахманинова на автобусе, и он ко мне подсел и всю дорогу рассказывал, как они летели в Тамбов и как он боялся. А теперь, говорит, уже не страшно… И еще два пилота ушли — хороших, первоклассных. Четыре человека.
— А у вас есть сейчас ощущение, что он вас поддерживает, что-то советует, помогает?
— Нет, я человек другого плана. Привык к реальности. Но абсолютно однозначно — я продолжаю его дело. За этим приехал в Москву. Надо было спасать проект, головную организацию. Я понимал, на что иду. Министр тогда еще мне сказал: ты знаешь, какая война шла за это место? Я ответил: Юрий Леонидович, вы же мне не генеральский мундир с орденами дарите, а кучу проблем, которые я буду расхлебывать не один год. Он на меня посмотрел, выдержал паузу, сказал: «Сработаемся».
— Вы написали немало книг…
— Да, и в одной из них так и написал: жизнь в профессии похожа на эстафету. Наши предшественники что-то делают на своем этапе профессиональной жизни и передают тебе эстафету, ты делаешь свой этап и передаешь следующему поколению, и так далее. Она не должна прерываться. Я это понимаю так. И, в принципе, считаю, в этом моя профессиональная миссия.
— Христо Периклович, как человек с такой фамилией, именем и отчеством угодил в Екатеринбург?
— Мои предки из так называемого Трапезундского царства, это север Турции, нынешний Трабзон. Это было одно из самых крупных царств Византийской империи и последняя территория, оставшаяся от Византии после падения Константинополя. Они еще сопротивлялись туркам-османам 8 лет. Мои деды, бабушки — все из этого региона, оттуда они эмигрировали в период геноцида православных христиан в начале прошлого века в Батуми. Отцовская семья попала под Сочи, в Лазаревское. Потом образовалась семья. Мама — тоже гречанка из Батуми.
Брату было 10 лет, сестре 40 дней, когда Иосиф Виссарионович решил собрать греков Черноморского побережья, в частности, из Батуми и из Сухуми, и выслать всех в Среднюю Азию. 90 километров под Ташкентом. Место называлось Голодностепский район. Это бывшее дно океана, остаток которого — Аральское море, солончаки. Вода грунтовая, солёная, выходит наверх, испаряется, и остается соль, уничтожающая все живое. Пробурили несколько скважин, опустили грунтовые воды на 1,5 метра и стали заниматься земледелием. Так и жили перемещенные народы. В нашем поселке с экзотическим названием Ильич (в честь Владимира Ильича) не было местных жителей. Ни казахов, ни узбеков. Были греки, немцы, корейцы, финны, молдаване, иранцы, русские, украинцы. Полный интернационал. Я там родился в 1953 году и рос в этой интернациональной среде…
— Среди солончаков.
— Тогда там все уже росло. Но из скважин текла малосольная морская вода, отдающая голубизной. Почти «курорт», не уезжая из дома. В 1970 году я окончил школу. В это время уже сложно было попасть в институты в Средней Азии — процветало взяточничество и кумовство. У нас таких возможностей не было. Отец умер, когда я был в 8 классе, а мать оставалась одна. Поэтому, кроме знаний, у меня ничего не было. Надо было ехать в Россию. А в России было два места, куда я мог ехать. Это Москва, где у меня учился старший брат, золотой медалист, и Свердловск. У меня там был двоюродный брат. Но в Москву немножко побаивался ехать. Решил в Свердловск. А когда приехал, понял, что Урал — это другая страна. Это страна чести, человеческих отношений, страна, где работали законы. Это то, что мне абсолютно по душе. Поэтому, когда я уже оканчивал институт, понял, что останусь там. Остался, окончил интернатуру, через полгода прошел по конкурсу на кафедру глазных болезней, защитился, стал доцентом. А потом шеф меня приметил и сделал директором. Мне было 33 года.
— На Урале, вы говорите, другая страна — чести, достоинства и так далее. А в Москве-то ведь не так. Как же вы себя здесь чувствуете?
— Да, здесь совсем не так. На Урале, для того чтобы ты получил признание и авторитет среди людей, ты должен был вкалывать с утра до ночи, и не один год. Доказать, что ты человек. Если ты человек, заслуживающий уважения, то к тебе относились самым преданным образом. То есть там ценят человека по его заслугам, по его личным качествам. Не по деньгам, не по связям. До сих пор, когда я сажусь в самолет Москва-Екатерибург, полсамолета со мной здоровается. Если я приезжаю в город — прихожу к губернатору, прихожу к мэру, в любую инстанцию. Куда бы я ни пришел — меня везде встретят, обязательно поздороваются, напоят чаем. Филиал, который я построил, команда, которую я создал, — это моя школа, она живёт, работает, и весь город, весь уральский регион это знает и помнит. И это меня греет.
А здесь… Здесь я решил остаться только потому, что понимал: без меня всё рухнет, феноменальный проект закончится. Мы создали уникальную систему оказания высокотехнологичной помощи на потоке больных, что раньше считалось в принципе невозможным. Я понимал: откажусь — рухнула бы не только головная организация в Москве, но следом бы потянулись филиалы, и уральский в том числе.
— Совершенно понятно, почему вы согласились на Москву. Но как вы здесь держитесь, на чем или на ком?
— Первый год был кошмаром. При работе в коллективе мне обязательно нужна обратная, ответная реакция. Я иначе работать не могу. Если я работаю, а это уходит в пустоту, мне становится неинтересно. Несмотря ни на какие регалии, должности, привилегии — это не мое, я просто ухожу с таких мест. А потом я нашел людей, которым тоже это было интересно. И понял, что Москва — это не безжизненное пространство.
— Москва для вас стала вторым Аральским морем, оттуда можно какую-то жизнь извлечь, хотя это трудно.
— Наверное, да. Хотя я по-прежнему не могу понять эту огромную армию бездельников, занимающихся интригами и больше ничем. Они всю свою жизнь тратят на это. Они ничего не строят, не созидают, — только портят другим людям жизнь, мешают им делать дело. У них ничего за душой нет. Так вот, у меня ушло семь лет на то, чтобы у людей появился блеск в глазах. Семь лет я потратил на сотрудников головной организации, чтобы появилось здесь человеческое тепло. Это важно. Речь идёт о заинтересованности в работе, в организации, в конечном результате, интересе к пациентам, желании им помочь. Если этого нет — ничего вообще не будет.
— В вашем научно-клиническом центре у всех глаза блестят?
— Конечно. А вы видели, какая у меня молодежь?
— Как вы принимаете их на работу, по блеску в глазах?
— Верно. Первый критерий — человеческие качества. Второй критерий — профессионализм.
— У вас, кстати, тоже глаза блестят. Насколько я понимаю, с точки зрения офтальмологии это тоже важно. Тусклые глаза — признак нездоровья.
— Совершенно верно. Без этого нет жизни. Вы понимаете, медицина — это не просто наука, это искусство. Это творчество. Это борьба. Если в тебе этого нет, ты не врач, ты просто носишь чужой мундир. И никогда из тебя не будет никакого профессионала. К сожалению, общество ударилось во всякие глупости, начали смаковать отрицательные истории о врачах, искать, собирать примеры, где ещё врачи провинились, не понимая одной простой вещи. Врачевание начинается с веры во врача. Вера — это 50% успеха. Когда пациент рассказывает: «Я поговорил с врачом, вышел, и мне стало легко», — это истина. В эту профессию нужно пускать избранных людей. Глумиться над профессией нельзя. Вы глумитесь над собой. Потому что вы роняете, в сущности, основной свой опорный стержень — веру. Этого нельзя делать.
Вот сейчас реанимируется огромное направление — лечение неинфекционных болезней, которое основано, в том числе, на психологии, на общении, на воспитании в больном веры в себя, поднятие жизненного тонуса, настря больного на борьбу. То есть то, на чем держалась вся старая медицина. И она была эффективной.
Я был в Греции, в Эпидавре, в так называемой Больнице Асклепия. Это развалины огромной лечебницы, где располагались баня, стадион, храм и уцелевший амфитеатр.
— А где же лечебница?
— Вот и у меня сначала возник такой вопрос. Потом я стал думать. И понял. На самом деле мы не лечим, мы помогаем больному бороться с болезнью. Это философия древней медицины, и она совершенно верна. Больной и его организм сами борются с болезнью, а мы только можем ему помочь. Так вот, для того чтобы он смог бороться со своей болезнью, он должен быть мобилизован. Прежде всего воздействовать нужно на самого главного эксплуататора организма — на его мозг. Именно его надо привести в порядок, чтобы он прекратил свою бурную разрушительную деятельность. Для этого — храм с его медитирующими технологиями. Театр, дающий эмоциональную медитацию. Стадион, предназначенный не для рекордов, а для того, чтобы через мышечную систему реанимировать биологический миропорядок в организме. Если мы сейчас посмотрим на вас, то основная ваша масса — это мышцы. Если вы их заставите работать физиологично и правильно — они будут позитивно воздействовать на весь организм. Представьте, что вся мышечная система — это всего одна «большая мышца». Вот она сократилась, она задает один импульс, она расслабилась — она задет обратный импульс. Через это ритмичное движение можно привести организм к нормальному биоритму. Это баня с ее релаксацией и воздействием на баланс воды, а мы из воды и состоим. Это система. И это знал гениальный Асклепион и его последователи. Это была лучшая лечебница на всем Средиземном море. Сюда съезжались со всех уголков мира. И я не сразу понял, при чем тут медицина. И только спустя время до меня дошло, что это и есть медицина. Просто увлекшись лекарственной терапией, мы забыли про ресурсы самого организма.
— Христо Периклович, несмотря на то, что сейчас делают высокотехнологичные операции, которые все меньше похожи на хирургию, тем не менее, лучше обходиться вообще без них. Можно ли дать какие-то универсальные рекомендации людям, чтобы зрение сохранялось максимально долго? Например, вредно ли много времени проводить за компьютером?
— Человек в природе должен был существовать таким образом, что где-то процентов 80 зрения он смотрел вдаль, высматривая дичь, плоды или оберегаясь от опасностей. И только 20% — вблизи, что-то мастеря. Ночью он спал. Как только солнце закатывалось — ложился, вставал на рассвете. Тогда не было электрической лампочки, как у нас с вами. С тех пор глаз не изменился совершенно. Он ровно такой же. А что делает современный человек? Он 90% времени работает вблизи. И только 10% — глядя вдаль. И то, если есть перспектива, как у меня из окна. Я могу посмотреть вдаль с седьмого этажа, на живописные окрестности Покровского-Стрешнева, при этом мышцы глаза расслабляются, и глаз отдыхает, набирается сил для следующей нагрузки.
А если вы на первом или втором этаже — у вас ее нет. Или если вы в «частоколе» городского сити — у вас, кроме блестящих стен, взгляду уткнуться некуда. А это значит, что у вас зрение не расслабляется, не отдыхает, не восстанавливается.
— Получается, что жить в мегаполисе не физиологично?
— Если мы говорим о зрении, то работа вблизи — это напряжение внутриглазных мышц, напряжение внешних мышц, и это колоссальная нагрузка. Человеческий глаз не приспособлен для такой нагрузки. Получая в 4,5 раза больше нагрузку вблизи, он, естественно, «ломается», и увеличивается количество «очкариков». Если мы говорим о современном человеке, то нагрузка увеличивается постоянно. У нас появились мобильники вместо телефонов, компьютеры, планшеты, прочие гаджеты. У нас искусственный свет, который продолжает день до глубокой ночи. То есть мы всё дальше от природы, от самих себя. Смотрим всё ближе, ближе и ближе, перегружая зрительную систему.
— И нам все чаще и чаще требуется помощь врачей.
— Да, мы не рождаемся здоровее, потому что эти дефекты накапливаются. Генетика их закрепляет. Человек как биологический объект не становится сильнее. А его эксплуатация в этой среде увеличивается несоразмерно его биологическим ресурсам.
— А что делать? Понятно, что вопрос не к вам, как к врачу, однако каждый грек — это по определению еще и философ, и стратег.
— Всегда. Как минимум считает себя таковым. Так вот. Можете ли вы не обучать своего ребенка грамоте, не показывать ему телевизор, компьютер? Не получится. Жизнь другая. Но можно попытаться встроить себя в эту жизнь с наименьшими потерями. Есть некий самоконтроль в организме у каждого человека. Надо уметь слышать организм. Если мы говорим о зрительной работе — надо уметь улавливать утомление. Вот вы читаете, смотрите на экран — и чувствуете, что вам тяжело: веки начинают тяжелеть, появляется зуд, глаза слезятся, болезненность в области глаз. Значит, надо сделать паузу. В этот момент организм вам говорит — я устал. Послушайте его. Он хочет вас сберечь. Надо переключиться на что-то другое. На физическую активность, на работу, которая не связана с мелкими деталями вблизи.
Можно посмотреть вдаль или погулять, или что-то сделать по дому, или отправиться в бассейн, в спортзал. Дайте расслабиться зрению. Оно расслабится — можно снова сесть, поработать, снова наступает утомление — делайте новую паузу. И, таким образом, чередуя нагрузку с отдыхом, можно эффективно работать и при этом беречь глаза.
— А смотреть вдаль надо как-то по-особому?
— Да, не просто мечтательно устремлять взгляд на линию горизонта, а обязательно рассматривать детали. Посчитайте, сколько окон на дальней башне или листочков на дальнем дереве. Только тогда мышцы расслабляются предельно, и глаза отдыхают.
Так надо делать во всем, чтобы избежать перегрузки. В приеме пище, в бодрствовании, в сне, физической нагрузке. Достигли утомления — стоп. Съели тарелку супа — стоп. Позанимались спортом, почувствовали мышечное утомление — остановитесь.
— Значит, надо себя уметь ограничивать во всем.
— Слушайте себя. У нас умнейший организм. Он не обманет. Он вам всегда сигнализирует — я не в порядке, подумай, притормози. Обязательно нужна гимнастика. Не только для глаз — для всего тела. Хотя бы два или три раза в неделю. Если каждый день — это просто замечательно. Этим вы держите организм в биологическом тонусе.
— И это касается, в том числе, глаз. Они — не отдельные органы, а часть нашего организма.
— Да. Если вы в порядке — ваши глаза будут в порядке. Если вы не в порядке — у вас и с глазами будут проблемы.
— Вообще, можно сказать, что человеческое зрение ухудшается?
— Конечно. Это факт.
— Потому что человечество не в порядке?
— Если мы возьмем цивилизованные страны, то больше половины населения страдает аномалиями рефракции. Это близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Чем цивилизованнее страна, тем этот показатель выше.
Берем африканскую страну, где нет телевизора, компьютера, мобильных телефонов. Ну, допустим, таких уже нет, но там всё это используется в значительно меньших количествах. Особенно там, где деревня, природа, где здоровая пища, но еды не хватает и инфекций полно.
— Казалось бы, всё плохо.
— Да, и медицина на значительно более низком уровне. Но там с глазами все будет в порядке по статистике. Конечно, вы там тоже найдете близоруких, но это будет мизер.
— Получается, за свое технологическое развитие мы расплачиваемся здоровьем.
— Да. Это везде, всегда так и было. Сначала мы придумываем двигатель внутреннего сгорания, и только потом обнаруживаем, что выхлопные газы очень вредны, надо бороться с созданными ими новыми проблемами. Появляется евростандарт по топливу и выбросам. Вы не заметили, что сегодня, идя рядом с автострадой, можно дышать? А еще лет 10 назад было невозможно. Потому что появились нормальные автомобили, более экологичный бензин, и это совершенно другая история.
— Значит, есть шанс найти разумный баланс?
— Шанс всегда есть. Просто он идет вслед за каким-то открытием, дающим возможность человеку что-то улучшить. Появился компьютер — круто, замечательно. Потом вдруг обнаружили, что от него излучение и надо менять экран. То же самое мобильный телефон. Мы вдруг обнаружили, что от него идет облучение, и начали разрабатывать модели, где риски значительно снижены. Но часть людей уже пострадала. Человечество всегда развивается по таким спиралям. Это неизбежно. Причем каждый раз оно расплачивается определенным количеством здоровья и своими жизнями. Сегодня многие вещи становятся действительно безопасными, но только потому, что мы прошли через массу негативных воздействий. Человек пренебрегает безопасной жизнью ради прогресса. Нужны опасности, чтобы научиться их преодолевать. Только так он развивает свой интеллект и учится выживать.
Беседу вела Наталия Лескова
Фото автора и Андрея Афанасьева