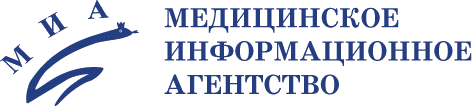Хирурги — люди особенные. Когда берешь у них интервью, они никогда не отключают телефон и всё время, через каждые пять минут, отвечают на звонки. Так и Александр Юрьевич Разумовский, главный детский хирург Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующий Четвертой хирургией Филатовской больницы, член-корреспондент РАН. Непрерывные рекомендации, сделать ли исследование тому или иному ребенку с контрастом или без, подключать ли антибиотики, «Хорошо, я сам посмотрю», «Хорошо, я подойду через 15 минут»…
Отделение похоже на вокзал, где ожидают своего поезда многочисленные мамы с детьми. Совсем крошки и более взрослые, некоторые на первый взгляд не отличаются от обычных детей — и только катетер или повязка напоминает об их болезни. «Лёгких» пациентов тут нет. Все прошли через реанимацию и пережили состояния, опасные для жизни. Но выбрались и намерены жить долго и счастливо. Именно на это настраивают их профессор Разумовский и его коллеги.
«А ты куда? Домой? — дергает меня за рукав халата пятилетний Ваня — самый бойкий и общительный здешний пациент. — А ещё придешь? А машинку мне принесешь?» Ещё несколько дней назад он не мог самостоятельно переваривать пищу, питался через трубочку в пищеводе, а теперь ест бутерброд и улыбается до ушей. Таких счастливых историй здесь — тысячи. Для многих детей это отделение — то место, где они обретают вторую жизнь. «Здесь трудятся настоящие волшебники», — таких отзывов о работе хирургов Филатовской больницы за несколько дней, пока готовила материал, я услышала множество. К сожалению, и у волшебников хватает трудностей, и не все удается легко и сразу преодолеть. Об этом — наш разговор с профессором Разумовским.
— Александр Юрьевич, прошла по отделению и вижу, что оно переполнено. Это хорошо или плохо?
— С точки зрения подготовки будущих хирургов — это великолепно. В Филатовской больнице мы делаем больше 300 операций в неделю. И поэтому, если молодой человек приходит сюда для того, чтобы выучиться, то он может, например, за месяц увидеть 1200 операций. Я не думаю, что вы можете найти в нашей стране, в Европе, в крупных странах, чтобы в детском госпитале выполнялся такой объем операций. И это не простые операции, тут происходит концентрация самых тяжелых больных. Так что с точки зрения учёбы — это очень хорошо. А с точки зрения пациентов — это довольно сложный вопрос. Ну вот, например, наше отделение рассчитано официально на 50 кроватей. У нас бывают дни, когда больше 100 человек может одномоментно здесь находиться. Вы представьте, какая это нагрузка на персонал. Всё время нужно искать возможности, чтобы удержать хотя бы медицинских сестер на работе. Для меня медицинские сестры — это очень важная составляющая. Сейчас много делается для того, чтобы повысить зарплату врачам. С моей точки зрения, врач, особенно молодой, приходит сюда только из-за желания выучиться, приобрести бесценный опыт, и порой, я думаю, многие из них вообще ничего не зарабатывают — например, ординаторы, аспиранты. Их зарплаты — это просто трудно назвать деньгами. Человек не может обеспечить себя на эти деньги. Никак. Но он готов идти на жертвы ради того, чтобы выучиться. К нам приходят талантливые, трудолюбивые очень порядочные молодые люди, которые хотят стать хирургами. Их очень много. Удивительные люди. Они высокомотивированы. Но вот медсестер мотивировать нечем.
— Из каких вузов к вам приходят аспиранты и ординаторы?
— Из самых разных. Из Первого, Второго медицинских университетов, приезжают по направлению из других городов, республик, из других стран. Это такая учебная практика. Наше учреждение очень известное, с громадными историей, культурой.
— Старейшая в Москве больница.
— Да, скоро она отметит свой 175-летний юбилей. А это не просто история — это традиции и особая атмосфера. Но это не единственное место, где мы работаем. Я заведую кафедрой во Втором медицинском — официально это Российский научно-исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. Это громадная кафедра, у нас 23 профессора, столько же доцентов. И мы работаем как крупный научно-исследовательский институт. Мы постоянно организуем и проводим конференции, выпускаем журнал, пишем научные статьи. А главное — мы готовим будущих хирургов. И все они работают, можно сказать, бесплатно. Так вот, благодаря им мы можем оперировать в таком большом объеме. Эта больница не может существовать без хирургии. Если все они сейчас уйдут, я не думаю, что мы можем справиться с таким количеством операций.
— Выходит, всё держится на энтузиазме этих молодых людей?
— Нет, это не энтузиазм, а желание изучить профессию.
— Но если работа бесплатная — это энтузиазм.
— Мне не нравится слово «энтузиазм». Для того, чтобы подготовить современного хирурга — нужно очень много времени. Можно стать выдающимся математиком, физиком, химиком в 25, проводить эксперименты и совершать открытия. А в хирургии это невозможно. И они прекрасно понимают, что им надо спешить, если они хотят состояться.
— А в хирургии сколько лет надо учиться?
— Официально во всем мире считается, что приблизительно к 40 годам заканчивается обучение этому искусству.
— Ничего себе. Еще немножко — и пенсия.
— 20 лет он работает до пенсии. Кто-то больше. Но далеко не все получают одобрение медицинского сообщества, чтобы потом работать. Это не факт, что молодой человек станет потом хирургом, если даже процесс обучения будет долгим и в очень хорошей клинике.
— Никаких гарантий.
— Никаких. Такие больницы, как наша, дают возможность не только выучиться, но и понять, твой ли это путь. У нас в стране, к сожалению, до сих пор очень короткий курс обучения хирургии. За это время получить хорошего специалиста нельзя. И только вот такая практика на базе клинических больниц может спасти ситуацию. Поэтому, несмотря на трудные условия, к нам стремятся многие. У нас существует конкурс. Мы берем только самых лучших. Но и выпускаем мы лучших. За каждого прошедшего у нас стажировку молодого человека я могу поручиться. Халтуры и плохого исполнения своих обязанностей не будет точно.
— Когда-то в нашей стране, участвующей в мировых войнах, нужно было очень быстро получить хирургов. Обучение шло экстерном — отучился и пошёл на фронт. И ничего — выучилась целая плеяда хороших хирургов.
— Нельзя стать хорошим хирургом экстерном. Да, были трудные времена, нужно было спасать раненых. И молодой человек, вчерашний студент без всякой практики, отправлялся на фронт и худо-бедно что-нибудь делал под руководством старших и более опытных врачей. Сейчас, с моей точки зрения, настало время пересмотреть отношение к хирургии. Сроки обучения необходимо увеличить. Здесь очень много дискуссий, и трудно что-то переломить. Фактически сейчас человек 6 лет учится в университете и потом 2 года в ординатуре. И получается, что после этих двух лет он получает возможность самостоятельно что-то делать. В большом городе, в крупной клинике этого не происходит. Здесь, например, в этой больнице никто не доверит человеку, который только что закончил ординатуру, чем-то заниматься серьезно. За ним стоит опытный хирург, который направляет, останавливает в сложных случаях, сам начинает что-то делать. Но делать серьезные операции и принимать серьезные решения человек, окончивший ординатуру, здесь и в других больших клиниках не имеет морального права.
А если этот молодой человек вдруг уедет из Москвы и попадет куда-то, где никого больше нет — он просто вынужден будет заниматься всеми проблемами, которые там имеются. И, конечно, в таких ситуациях возникает очень много вопросов. Потому что для того, чтобы овладеть такой сложнейшей профессией, как хирургия, необходимо очень много времени. Нужен опыт, практика.
— На ваш взгляд, хирургия — это самая сложная медицинская специальность?
— Ну, я не могу так сказать, чтобы никого не обидеть. Но в хирургии должна сочетаться масса качеств человека.
— Каких?
— Интеллект, в первую очередь. Хирург должен быть умным.
— Ну, это, наверное, как и любой врач.
— Да, как и любой врач. А дальше — всё остальное, чего может быть лишён врач другой специальности. Это умение быстро принимать решения, отстаивать свою точку зрения, брать на себя ответственность, не бояться этого. Дело в том, что мы — врачи в России (и это тоже одна из сложных проблем) — не являемся защищенной категорией. Потому что все права — на стороне пациентов. Скажем, погиб ребенок. Кто виноват? Всегда врач. Это тяжело. С этим жить иногда невмоготу.
— Особенно, когда это тебе еще и говорят.
— Да, говорят. Это ты виноват! И ты должен будешь выдерживать это каждый раз, когда что-то пошло не так. У нас в государственных медицинских учреждениях нет служб, которые защищали бы от всего этого негатива врачей. Но врач не должен думать о том, что о нем говорят. Я имею в виду врача опытного, состоявшегося, которого общество приняло, человек, который получил назначение и каждый день честно делает свою работу. Но врач не Бог. Он может многое, но не всё. Врач имеет право быть защищенным. Он должен думать только о больном, а не о том, что о нём и о его работе скажут. Это очень болезненная вещь, потому что нам, тем, кто занимается серьезной хирургией, приходится, к сожалению, сталкиваться не только медицинской составляющей.
— А с чем еще?
— Если речь обо мне, то тут много всего: организация, закупки, о которых, к сожалению, нужно все время думать. Это большая машина, которую нужно всё время заводить, если хочешь, чтобы она ехала. Особенно сейчас, когда объем работы вырос в несколько раз.
— Почему он так вырос?
— Я думаю, в какой-то степени потому, что государству выгодно, когда оборот пациентов большой. Подозреваю, в этом есть экономическая составляющая. Сам я не имею к экономике никакого отношения. Я занимаюсь пациентами. Я лечу. Пока мы справляемся — как я уже сказал, во многом за счёт нашей молодежи. Молодежь живет здесь, в больнице, они, по-моему, вообще не уходят. Минимум 12 часов в день проводят здесь, без выходных. Но зато к концу срока определенного обучения они умеют и знают гораздо больше, чем их коллеги, у которых такой практики не было.
А вторая причина — Москва всегда была центром, куда стекались самые тяжелые больные. И люди всеми возможными путями, если не смогли решить свои проблемы дома, стараются попасть к нам. Мы с вами находимся в московской больнице, и фактически мы созданы для того, чтобы лечить москвичей. Но у нас очень много людей, которые приезжают из всех регионов, из республик и из-за границы.
— А как же вы их принимаете? Платно?
— Нет, по полису обязательно медицинского страхования для россиян. Вот человек, например, живет в Хабаровске или Ханты-Мансийске. И там у него может что-то не складываться. Ну, опыта мало у врачей. Не получается помочь ребенку. Я называю условные города, не желая никого обидеть. И вот он узнает от знакомых или через интернет, что в Филатовской больнице берут всех, никому не отказывают. Они покупают билеты и приезжают сюда. И так бывает. Хотя чаще, конечно, сначала звонят. У меня телефон редко молчит — звонки идут постоянно. И мы действительно никому не отказываем.
Сейчас время изменилось — вся информация в свободном доступе. Контакты очень простые. Интернет, сайты есть, электронная почта — всё открыто. Вот, видите, мне пишут: «Дорогой Александр Юрьевич, у меня проблемы такие-то с ребенком, не можете вы нам помочь?» И я отвечаю: пожалуйста, приезжайте. Они приезжают — мы их кладем, обследуем, оперируем. И таких, как видите, очень много.
Но больные у нас очень тяжелые. Как правило, такие, которым не смогли помочь на местах. Я подозреваю, что вылечить таких детишек не только очень сложно для врачей, но и требует больших затрат для государства. Но оно на это идет, раз поток больных у нас не снижается, а наоборот.
Приведу пример. Это отделение рассчитано на 600 или, может быть, 800 больных в год. А у нас в прошлом году было почти 4000. Мы раньше делали приблизительно 600 операций в год. Это очень много для такой службы. А в прошлом году сделали почти 3000 операций. Не знаю, что будет в 2017-м. Год близится к концу, мы посчитаем — и, думаю, цифра будет еще больше. С каждым годом мы все больше и больше работаем.
— Какие преобладают патологии?
— Патологии самые разные. Мы занимаемся тяжелыми проблемами, связанными с грудной клеткой. Это также поражение печени, поджелудочной железы, различные опухоли. Мы изначально специализируемся на торакальной и абдоминальной хирургии. Очень много детей, которые когда-то были оперированы. Мы оперируем их повторно. Это очень сложная задача.
— То есть вы исправляете чужие ошибки?
— Это не ошибки. Просто так бывает, что не складывается. По разным причинам. Повторюсь — речь идет об очень непростых пациентах. Мы не занимаемся разбором работы других хирургов. Мы отвечаем только за свою. Так вот, если мы будем производить продукцию низкого качества, то, соответственно, никто к нам не поедет.
— Но ведь и вам, наверное, не всё удается.
— Разумеется, не всё. У нас тоже бывают люди, которые недовольны. Это редко случается, к счастью.
— Александр Юрьевич, я видела в Интернете отзывы о вашей работе. Большинство — восхищенные.
— Но есть люди, которые могут нести и отрицательную информацию. Этот негатив присутствует.
— Знаю, у вас есть множество собственных разработок. Расскажите об этом.
— Мне посчастливилось попасть на очень плодотворную почву. Я попал в божественное место, в котором очень много впитал. Я помню таких корифеев, как Юрий Федорович Исаков или Эдуард Александрович Степанов. Меня окружали удивительные люди.
— Вижу, у вас на стене прямо «иконостас» фотографий великих учителей.
— Да. Каждый из них оставил громадный след в истории нашей медицины. У нас исторически была сильна торакальная хирургия. Сегодня это торакальная эндохирургия — громадный раздел, в котором мы ушли далеко вперед. Мы одними из первых в мире начали оперировать детей через проколы, не разрезая их. Вот мать приходит в больницу у себя дома, а ей врачи говорят: мы не сможем сделать это эндоскопически, мы можем только разрезать.
— Там нет эндоскопических технологий?
— Дело не в этом. Для того, чтобы это сработало — одного оборудования недостаточно.
— Надо уметь.
— Да. Надо уметь. А подготовить такого специалиста — это тоже очень долгий путь. Если он живет в маленьком городе, он никогда не сможет научиться таким манипуляциям, даже если они закупили оборудование. Да, оборудование необходимо, но самое главное — это человеческий фактор. В хирургии не так, как в биохимической лаборатории: поставил прибор, посадил людей, они сидят и анализирует физиологические жидкости. Получаются анализы. У нас каждый случай индивидуален. И у каждого своя судьба. У нас, даже не как в кардиохирургии или офтальмологии. Там сейчас почти конвейер. А у нас в абдоминальной и торакальной хирургии — только ручная работа.
Конечно, большинство случаев — это всё-таки что-то типичное и не слишком сложное. Но если это сложный порок развития или какая-то тяжелая травма, возникают сложности. И тогда хирург должен уметь ориентироваться в подобных ситуациях. Тут нужны особые знания и опыт.
Если говорить о собственных разработках, то их, конечно, очень много. Масса нововведений, операций, которые мы сделали первыми в мире. Вот, например, когда у ребенка мы сделали пластические операции на бронхах, не делая больших разрезов. Такого больше нигде не было. Операции с разрезами очень сложные, высокотравматичные, после них долго и тяжело восстанавливаются. Это операции по удалению части легкого, резекция, пороки развития легких — мы тоже всё это делаем эндохирургически. Не покривлю душой, если скажу, что у нас самый большой в мире опыт этих операций. Далее — операции на пищеводе у детей.
— Знаю, вы получили премию Правительства РФ за разработку технологии пластических операций на пищеводе у детей.
— Не я один — наш коллектив. Да, это сложные реконструктивные операции, разработанные здесь, в этих стенах. У нас вообще много премий. Этим мы не обделены. Но мы плотно заняты работой, и у нас часто нет времени, чтобы все наши разработки оформить. Оформить патент — это ведь тоже долго и сложно. А специальных людей, которые бы этим занялись, у нас тоже нет.
— Почему вы говорите, что детская хирургия — особенная наука?
— Дело в том, что контактировать с пациентом напрямую порой проще, чем через родителей. Это накладывает свой отпечаток на профессию. Родители очень разные. И современное общество сложное. Когда ты общаешься с людьми, которые не больны сами — найти с ними контакт нелегко. Родители очень осторожны, они порой не хотят доверять врачу, боятся. Я не могу подобрать нужных слов, чтобы это описать.
— Боятся, что станет ещё хуже?
— И это бывает. Поэтому не всегда всё быстро и гармонично получается. Еще и поэтому немногие выбирают профессию детского хирурга. Это штучный товар. Наш путь гораздо более сложный, ответственный, чем во многих других специальностях.
— Александр Юрьевич, вот вам привезли тяжелого ребенка, вы его прооперировали, выходили — и он практически здоров. Что вы испытываете?
— Когда я вижу, что он практически здоров, я уже не думаю о нем, понимаете? Они выписались домой — всё. У меня появились новые «тяжелые» дети. Я думаю о них.
— Никакого ликования?
— Ликовать нам некогда. Вообще тяжелобольные дети — это ноша не только для родителей, но и для врачей, которые взяли за них ответственность. Если что-то не получается — для хирурга это трудное испытание. Ты себя поедом ешь, не спишь, всё время думаешь: что я сделал не так, что нужно изменить, чтобы помочь этому ребенку? И всегда винишь себя в том, что больному плохо после операции, в том, что он не выздоравливает. И ты думаешь: лучше бы у меня болело, только бы он поправился. Очень это тяжело переносится. Очень.
— Как же вы живете с таким грузом?
— Так и живу. Давление нормальное. Руки на месте.
— А как вы себя убеждаете, что нужно продолжать? Были когда-нибудь мысли, что надо уйти?
— У меня три года назад был кризис. Я подумал, что зря я выбрал такую работу. Потому что труд, который ты вкладываешь, назад не возвращается.
— Неблагодарная работа?
— Да. Держать эту нагрузку иногда просто непосильно. И ты с ней один на один.
— Что же повлияло на вас, что решили все-таки остаться?
— А я не знаю. Я вдруг понял, точнее — ощутил, что занимаюсь хорошим, важным делом. Мы тысячи семей делаем абсолютно счастливыми. Эти дети не могут есть, дышать самостоятельно, у них не работают легкие, желудок или печень. Их мамы круглосуточно находятся при них, не могут выйти на работу или просто сходить в парикмахерскую. Они не живут, а только выхаживают ребенка. А мы их оперируем — и они совершенно здоровые едут домой. Это же счастье. И мы этому способствуем.
Хотя наша работа всё равно очень неблагодарная, и не все могут из такого кризиса выйти. Кто-то уходит из профессии. У меня есть множество коллег, куда менее преуспевших в хирургии и вообще сделавших намного меньше, но они намного успешнее. У них личные водители, автомобили, уровень дохода совсем другой. И жизнь куда проще и спокойнее.
— У вас есть предложения, как эту ситуацию изменить к лучшему, чтобы детский хирург был защищен, обеспечен?
— Предложение одно. Нужно тратить на здравоохранение столько, сколько требуется. Одной только покупкой оборудования или строительством этот вопрос не решишь. Врач должен получать достойную зарплату. Такую же достойную зарплату должна получать медсестра. Профессия медсестры должна стать престижной. Девушки должны приходить сюда и гордиться тем, что они здесь работают. У нас происходит иначе. Многие разочаровываются, когда они начинают работать. Они уходят, начинают продавать медицинское оборудование, кто-то вообще бросает медицину, занимается бизнесом. Многие уходят в руководители, становятся организаторами здравоохранения. И как их не понять: ты приходишь — а тут полная больница тяжелых детей, и их жизнь зависит порой только от твоего решения. Многие думают: если заплатить врачу, ребенок выздоровеет. К сожалению, так проблема не решается. Ты должен применить весь свой интеллект, весь свой опыт вложить в этого маленького человечка, и тогда, может быть, что-то заработает. Ты должен сделать так, чтобы вокруг тебя были люди, которые к тебе тепло относятся. Чтобы этих людей было достаточно. Воспитать коллектив. Рядом с тобой должны быть соратники — люди, которым ты доверяешь. И эти люди должны быть хорошо одеты, у них должна быть возможность отдыхать по-человечески, они не должны перерабатывать, падать от усталости.
— При этом у вас безумно много работы.
— Да, очень много. И тут только один вариант — нужно уделять всему этому достаточно внимания. Причем, подчеркну еще раз, — в первую очередь, надо позаботиться о среднем медперсонале. Уже потом о врачах.
— Первый раз вижу врача, который больше печется о среднем медицинском персонале, чем о своих коллегах.
— Основа любого мощного госпиталя — это средний медицинский персонал. Медсестра круглые сутки рядом с пациентами. Если у нее стабильная зарплата, покой в семье, достаток хороший, тогда и дело будет идти хорошо. Она будет очень трепетно относиться к пациентам. Если же она надрывается за последние копейки, ничего путного не получится.
— Вы считаете, что у нас средний медицинский персонал недооценен?
— Да. Поэтому у нас имеется дефицит медицинских сестер. Операционных, процедурных сестер. Везде. Во всех больницах. Во всей стране. Ну, может быть где-то в регионах, где другая экономическая обстановка или нет на каждом шагу коммерческих медцентров, куда они могут пойти, — там может быть иначе. Не знаю. В Москве эта проблема стоит остро. Особенно сейчас, когда поток больных увеличился, нагрузка стала намного серьезнее, мы должны как-то на это реагировать. Мы не можем из людей выжимать последние соки, надеясь на качественный результат.
— Александр Юрьевич, больных стало больше потому, что они к вам со всей страны едут, или их объективно больше?
— Еще и потому, что раньше бы таких детей не выходили. Сейчас и диагностика на другом уровне. Возможностей для выживания и лечения таких детей становится всё больше. Каждый год в Филатовской больнице делается почти 15 тысяч операций. Очень сложных. Невозможное вчера становится возможным сегодня.
— Мне ваш коллега профессор В.М. Розинов из больницы им. Сперанского говорил в свое время, что 90% детских трагедий — это ветер в голове у взрослых. То есть самые тяжелые детские травмы происходят по недосмотру родителей. Это так?
— Да, дети выпадают из окон, получают серьезные ожоги часто именно по этой причине. Или 14-летний подросток на скутере едет, на квадроцикле — и получает травмы, иногда несовместимые с жизнью. Ожоговый центр, где работает Владимир Михайлович, на базе 9-й Детской городской клинической больницы имени Сперанского, самый мощный в Москве и, наверное, в России. Там трудятся великолепные специалисты, очень грамотные, они очень хорошо лечат. Мы всех больных с ожогами отправляем туда. Это правильно. Больница им. Сперанского специализируется на травме. Они забирают со всей страны самые тяжелые травмы. Дай им Бог здоровья.
Филатовская больница — больше по плановой хирургии. Экстренных случаев у нее так много. У нас нет нейрохирургии. Если у больного черепно-мозговая травма — он должен ехать либо в больницу имени Сперанского, либо в Детскую Тушинскую, либо в Морозовскую больницу. А у нас — абдоминальная хирургия, органы дыхания, реконструктивные операции. Детская урология на очень высоком уровне. Мы также славимся хирургией новорожденных. У нас неповторимые технологии по выхаживанию таких малышей.
— Какие у вас технологии для выхаживания новорожденных?
— Вообще это направление было у нас первым, которое создано в стране. Хирургия новорожденных у нас имеет громадную историю. 700 операций в год мы делаем, и теперь это уже начинается с этапа беременности, внутриутробно. С мамой врачи заранее намечают план. Если такой ребенок рождается — поступает сюда. Здесь великолепное отделение неонатологии. Это выхаживание и реанимация. Вообще в Филатовской больнице 72 реанимационные койки. Эта цифра сама по себе говорит о тяжести пациентов.
— Вижу, у вас огромное количество учебников. В том числе и на иностранных языках. Это все ваше?
— Да. Вот это учебник по детской хирургии, по которому учится вся страна. Он переведен даже на казахский язык. Казахстан в плане медицины — очень прогрессивная страна. Там очень много денег тратится на здравоохранение. Они могли перевести с английского, да и вообще они очень ориентированы на Америку, на западные страны. Но (!) взяли наш учебник.
— Ваш учебник лучше?
— У нас хороший учебник.
— А сколько у вас всего написано книг?
— Моих — 17. В том числе, изданных в МИА. Я вполне могу умереть, потому что написал книги, по которым учатся студенты разных стран.
— Лучше не умирайте.
— Да я и не спешу. Важно, что все эти книги написаны только на основании собственного опыта. Коллег, с которыми готовлю к печати эти книги, я прошу, чтобы они не использовали чужие мысли, чужой опыт. Всё изложенное — наше, то, что прошло через наши руки, нами прочувствовано, пережито, переболено.
— Интересно, вы помните своего первого пациента, которого самостоятельно оперировали?
— Помню. Это была женщина. Я ведь хотел быть взрослым хирургом. И мне доверили делать аппендэктомию. Это было ужасно.
— Почему ужасно?
— Потому что я не был к этому готов. Ни физически, ни морально. Я и сейчас каждый раз перед операцией волнуюсь, а тогда… Я безумно волновался. По-моему, я не всю операцию смог выполнить сам.
— У вас было недостаточно опыта. Это именно то, о чем мы говорили.
— Да, именно. Нельзя хирургу без опыта доверять самостоятельные манипуляции на людях. Наверное, я производил хорошее впечатление на моих учителей, и они мне доверили сделать операцию. Мысли тогда были самые мрачные.
— Почему же вы ушли в детскую хирургию?
— Вообще я учился на педиатрическом факультете, но как-то меня тянуло во взрослую хирургию. Мне это было интересно. Но потом так получилось, что я все-таки пошел сюда. И Бог меня привел именно в Филатовскую больницу. Никогда об этом всерьез и долго не жалел.
— Здесь такого страшного волнения уже не было?
— Здесь я был уже более взрослым. Операции начались быстро, одна за другой. Сейчас, если надо будет удалить аппендикс, наверное, я это сделаю. Хотя делать это мне уже не приходится.
— А какие вам приходится чаще всего делать операции?
— На пищеводе, на легких, на крупных сосудах, на аорте, на грудной стенке, на печени, на желудке, на поджелудочной железе. Очень много, каждый день.
— Есть ли какая-то операция, которую бы вам хотелось сделать, но пока не получается?
— Я таких не знаю. Конечно, и у нас есть ситуации, когда вообще ничего нельзя сделать. Но если можно что-то сделать, то мы это делаем.
— Есть ли ситуации, когда у вас это не лечат, а где-то в мире лечат? На таких детей обычно собирают огромные деньги, чтобы вывезти их за границу.
— Это к нам не имеет отношения.
— Я имею в виду вот что: действительно ли есть что-то такое, что за границей умеют, а у нас нет?
— Такого нет. Но вот придет сюда пациент и увидит, что у нас многоместные палаты, теснота, шум и гам, и он скажет: я не хочу здесь лежать, я хочу комфорта. И действительно, есть места, где вам дадут больше комфорта, встретят с распростертыми объятиями. За такие-то деньги…
А в наших государственных учреждениях таких мест пока мало. Но мы очень много путешествуем. Нас все время приглашают за границу. Мы лекции читаем, доклады делаем. У нас нет такой проблемы, что наши доклады не принимают на какой-либо значительный международный съезд. Авторитет мы имеем большой и заслуженный. Мы смотрим, что происходит в мире ,и, конечно, если это заслуживает внимания, — мы это применяем.
Но не слепо перенимаем. У нас очень большой собственный опыт, который позволяет нам отфильтровывать что-то действительно нужное.
А что касается этих сборов на спасение ребенка за границей, то ведь всё это носит коммерческий оттенок. Существует целая сеть фондов, которым тоже надо на что-то существовать. Там множество сотрудников, которые получают зарплату. И всё это складывается из множества пожертвований. Все это надо знать и учитывать.
— Мне кажется важной мысль, что, прежде чем собирать бешеные деньги и ехать за границу, надо обратиться к нашим врачам.
— Этого я говорить не буду. Если им нравится — пусть едут. Нам пациентов, как видите, хватает. Каждый человек свободен. Другое дело, что он зачастую просто не понимает, что его разводят.
— Александр Юрьевич, у вас в кабинете лежат гантели. Вы что, занимаетесь в перерывах между операциями?
— Занимаюсь. Нужно все время следить за собой. Нужно много физической нагрузки. Иначе долго не протянешь.
— Неужели вам не хватает физической нагрузки на операциях?
— Во время операции — это статическое напряжение. А нужно много двигаться. Хорошо питаться. Вот с этим не очень. Некогда. Мне и сейчас надо бежать к пациентам…
Беседу вела Наталия Лескова
Фото автора и из архива доктора А.Ю. Разумовского