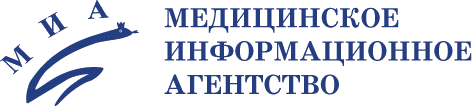Мне не раз приходилось ждать врачей с операции. Профессора-трансплантолога Олега Руммо довелось ждать четыре часа — он выполнял срочную пересадку печени двухлетнему ребенку. Во время интервью он всё время поглядывал на экран компьютера — операция продолжалась уже без него, и он контролировал, всё ли идет нормально. Главный детский онколог Минздрава, академик РАН Владимир Поляков задержался всего на час. И всё равно извинялся, хотя в таких случаях извиниться хочется мне — что вторглась со своими вопросами. Когда ждешь хирурга, спасающего детскую жизнь, возникают особенные мысли. Не думаешь о том, что куда-то опаздываешь или что-то может сорваться, потому что всё это становится неважным. Думаешь только о том, чтобы у него всё получилось. И поэтому первое, о чем хочется спросить, — как прошла операция. Так было и на сей раз.
— Владимир Георгиевич, расскажите, что случилось и как всё закончилось.
— У полуторагодовалого ребенка ретинобластома с вовлечением в опухоль интракраниальной части зрительного нерва. Это ситуация, когда приходится делать сложную комбинированную операцию совместно с нейрохирургами для того, чтобы не только удалить опухоль, но и вообще спасти ребенка. Операция прошла, слава Богу, хорошо.
— Это врожденная проблема?
— В данном случае она генетически обусловлена. Встречается эта патология чаще всего у детей до года-двух. А в тех случаях, когда не передается по наследству — возникает спорадически. Таких больных до 150 в России выявляется ежегодно. И все они концентрируются преимущественно у нас, в нашем институте. Мы обеспечиваем весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий, включающий поднаркозное обследование (потому что это дети младшей возрастной группы), оперативное лечение, системную и локальную химиотерапию, а также лучевую терапию. Разработаны уникальные методики. Точнее, мы взяли существующие в Японии методики, куда ездили учиться наши специалисты, а потом доработали, дополнили и модифицировали нашими разработками.
Сегодня мы имеем очень большой опыт выполнения таких операций — пожалуй, такой, какой имеет вся Европа. Это, так называемая, интраартериальная химиотерапия — внутриартериальное селективное введение лекарственного препарата в питающую глаз артерию, через катетер, который проводится через бедренную и далее сонную артерию непосредственно к сетчатке глаза, откуда развивается опухоль. Эта методика позволяет ввести препарат точно в очаг поражения, и избежать системной химиотерапии, которая очень токсична для детей. В результате опухоль сокращается до таких размеров, что можно подключить локальные методы воздействия (лазерная, брахи- и криотерапия) для уничтожения остаточных элементов злокачественной опухоли. А самое главное — эта методика позволяет избежать наружного облучения, которое в раннем детском возрасте не полезно. Ребенок выздоравливает, но остается выраженная деформация лицевого скелета, который отстает в росте глаза. А здесь мало того, что сохраняется функция зрения, достигается еще и великолепный косметический эффект.
— Наверняка не удается всем нуждающимся попасть на такую операцию в ваш центр. И что делать остальным?
— Мы стараемся популяризировать этот метод, по всем каналам и сетям, через наш журнал Российского общества детских онкологов и наш сайт. Наша задача — сделать так, чтобы о методе узнали все.
— Но сможете ли вы справиться с таким потоком, если он вырастет?
— Тяжело. Но мы всё-таки надеемся на окончание строительства нашего института детской онкологии. В плачевном состоянии он находится уже четверть века. Однако перспективы намечаются, и правительство в прошлом году выделяло деньги, так что мы надеемся на лучшее. Если удастся строительство завершить, то перспективы у нас будут хорошие — 250 коек. Сейчас мы переполнены. Мы задыхаемся. У нас жуткий койкооборот во всех наших отделениях, которые занимаются лечением детей со злокачественными новообразованиями.
— Значит, онкологические отделения на местах не могут справиться с этими проблемами самостоятельно?
— Они справляются, но с какими-то стандартными ситуациями. На самом деле мы именно этого и хотим, потому что должны быть отдельные федеральные центры, которые брались бы лечить больных с самыми тяжелыми и редкими случаями, вводили бы инновации, делали специальные работы и внедряли высокотехнологичные методы. Нельзя тиражировать то, что мы делаем, в каждое отделение, потому что это дается ценой опыта и ошибок. У нас есть команда высококвалифицированных специалистов, которые могут справиться фактически с любыми задачами. Нас не пугают никакие пациенты, присланные из регионов. Там, к сожалению, служба еще недостаточно сильна, но из года в год их знания и умения растут. При этом дефицит врачей на местах остается, и мы это ощущаем. Детских онкологов остро не хватает.
— Как думаете, почему?
— Это непопулярная специальность, потому что это очень тяжело и морально, и физически, и многим кажется неинтересным с точки зрения перспектив, потому что в медицинской среде и сегодня считается, что сделать ничего нельзя. У нас чаще, чем в других медицинских специальностях, встречаются печальные исходы. Смертность от злокачественных образований после травматизма в детском возрасте стоит на втором месте.
— И это несмотря на 80 процентов выздоровлений в детской онкологии, что, несомненно, большой рывок по сравнению с данными 10–20-летней давности.
— Но 20 процентов детей погибает, и это много. Это не пневмония, не вирусная инфекция, где существует минимальный риск погибнуть. При инфекционных или кардиологических заболеваниях дети в большинстве своем сегодня выздоравливают. Умирают единицы, и это всегда вызвано какими-то тяжелыми осложнениями. А тут речь идет о высоком риске летального исхода. Поэтому популярной нашу профессию не назовешь. Даже по сравнению со взрослой онкологией. Сюда заманить молодых людей проблематично.
— С чем связан рост заболеваемости в детской онкологии — только с улучшением диагностики, или рак объективно наступает на человечество?
— Рак, бесспорно, наступает на человечество. Количество больных увеличивается — как взрослого контингента, так и детей. Это истинный рост, не связанный с выявляемостью. Хотя да — выявляемость улучшается. Но наша задача состоит в том, чтобы выявлять рак на ранних стадиях. Об этом сегодня не слышал только глухой. Все онкологи мира трубят, что главный враг рака — это ранняя диагностика.
— Это так. Но ведь у ребенка это сделать достаточно сложно — у него рак развивается стремительно.
— Совершенно верно. У ребенка это не рак, это преимущественно саркома, имеющая значительно более быстрое деление клетки, высокую активность. Рак у взрослого человека — это неплохо изученное явление, а у ребенка это случается казуистически редко, так что мало какой врач даже заподозрит здесь патологию. И такое бывает нередко.
— У меня есть знакомая семья, где девочка заболела эпендимомой спинного мозга после катания с горки. Упала, ушиблась, начались боли в спине… Её долгое время лечили физиотерапией и массажем, а когда поставили диагноз, процесс зашел уже очень далеко.
— То есть делали всё то, что ей было противопоказано. И это в порядке вещей. Злокачественный процесс может запуститься после травмы, даже незначительной, или после перенесенного инфекционного заболевания. Для детей ведь это обычная ситуация — они падают, они болеют. Поэтому, как правило, их лечат от чего угодно, но об онкологии думают в последнюю очередь, и это несмотря на то, что мы ведем активную пропаганду, читаем лекции, проводим Школы педиатров, стараясь привить им онкологическую настороженность. Понятно, что при существующей загруженности педиатрического звена этого добиться непросто. Но, тем не менее, забывать о таком риске нельзя. Именно в период эпидемий, в холодное время года на фоне ОРВИ или гриппа, которые становятся провоцирующим фактором, нередко иммунная система рушится, и на этом фоне у ребенка возникает онкологическое заболевание. Пока оно в яркой манере себя не проявит, никто из врачей, как правило, не настораживается. Затруднено дыхание — аденоиды. Кашель — бронхит, трахеит, пневмония. Болит живот — съел что-то не то или энтеровирус. Назначат симптоматическое лечение. И процесс запускается. А опухоль тем временем растет.
Хотя сейчас рак стал выявляться чаще, поскольку появились такие методы, как УЗИ, благодаря чему можно посмотреть лимфатические узлы, печень, почки, органы забрюшинного пространства. Сделать рентгеновские снимки. Всё это увеличило процент выявляемости. Но, тем не менее, за последние пять лет заболеваемость у детей увеличилась на 10 процентов. А в перспективе ожидается еще больше. Сейчас заболеваемость составляет 12–15 человек на сто тысяч детского населения ежегодно, а среди взрослых — около 600 тысяч в год. Детей заболевает примерно 4 тысячи каждый год. Казалось бы, по сравнению со взрослыми это совсем немного, и проблему можно запросто решить.
— Но не получается. А почему?
— Самая главная проблема — наверное, то, что мы до конца не знаем природы рака, не вполне понимаем его причины. Есть и масса других трудностей. Скажем, помимо своевременной диагностики нужно еще и достаточное обеспечение. А в регионах с этим проблема. Или, например, пришел ребенок на УЗИ щитовидной железы, и у него там ничего не обнаружено. А через день у него появились «узлы». Но никто его уже не обследует. Он приходит повторно через полгода — а там уже опухоль. То есть процесс этот может начаться в любой момент и развиваться очень быстро. Поймать его сложно. А специфических маркёров нет или их совсем мало.
— Что же с этим делать? Или вам некогда думать на эту тему, надо оперировать?
— Почему же, постоянно думаю. И не я один — весь мир ломает голову. Но пока ничего придумать не удалось. Существует масса теорий возникновения рака — вирусная, генетическая и другие. Наука не стоит на месте, всё время что-то происходит, но, сколько бы мы ни бились с этим заболеванием, оно пока что своих позиций не сдаёт.
— Владимир Георгиевич, вы начали как детский отоларинголог. Почему вдруг возникла детская онкология?
— Я окончил педиатрический факультет. Получил диплом педиатра. Потом заинтересовался отоларингологией, ходил на кружок, был там старостой. После этого мне предложили остаться в ординатуре. Это было на базе Морозовской больницы, где открылось первое в нашей стране детское онкологическое отделение, которое создал мой учитель академик Лев Абрамович Дурнов. Там стали концентрироваться дети со всего Советского Союза. Я туда случайно попал — у ребенка было носовое кровотечение, и меня вызвали как врача-отоларинголога. Я его остановил. Познакомился с Львом Абрамовичем, и он начал ко мне приглядываться. Потом стал приглашать меня на обходы — в общем, он меня заманил. Мне было интересно, поскольку это было что-то новое. А когда я закончил ординатуру, в 1976 году открылся онкологический научный центр с отделением детской онкологии. Лев Абрамович пригласил меня сюда работать. Потом отделение трансформировалось в институт детской онкологии с двумя отделениями — онкогематологии, которое возглавляла профессор Л.А. Махонова, и отделение солидных опухолей, которое возглавил Лев Абрамович. Потом он стал директором всего института. Появились отделения головы и шеи, торако-абдоминальное, отделение химиотерапии и гемобластозов, потом мы открыли первое в стране отделение трансплантации костного мозга.
— А вы стали специализироваться на опухолях головы и шеи. Это из-за прошлого ЛОР-врача?
— Да, именно потому, что в анамнезе у меня был опыт отоларинголога. Трудно сказать, помогло мне это или нет, потому что я вообще-то очень люблю торако-абдоминальную локализацию. А вообще, когда я сюда пришел, оперировать приходилось всё — и печень, и почки, и руки, и ноги. Всё. У нас было одно отделение общей онкологии, и всё было перемешано. А когда мы стали институтом, Лев Абрамович попросил меня заняться локализацией головы и шеи, тем более что в этом направлении никто еще не работал. Это было первое в нашей стране отделение опухолей головы и шеи, оно остается единственным и по сей день. Мы берем всех пациентов с заболеваниями этой области — кожа, глаз и орбита, ЛОР и челюстно-лицевая патология, основание черепа, щитовидная и слюнная железа, опухоли шеи. Мне, честно сказать, хватает этой работы. Хотя моя любимая — всё же торако-абдоминальная локализация.
— Как это понять — любимая локализация?
— Вы знаете, если бы я не стал ЛОР-врачом, то я бы стал неплохим специалистом в этом направлении. Мне нравятся эти операции. Я до сих пор на них хожу, любуюсь. Мне нравится также операции на шее и щитовидной железе. Считаю их настоящим искусством. Хотя у нас сейчас есть специалисты, которые прекрасно выполняют челюстно-лицевые, трансназальные эндоскопические операции, одно удовольствие за ними наблюдать. Сейчас мы выполняем трансназально целый ряд сложных манипуляций в полости носа, придаточных пазухах, основании черепа без единого разреза на лице — и при этом радикально. Конечно, эндоскопическое направление развивается везде и во всех областях хирургии, и у нас в институте этими методами проведены сотни операций на органах брюшной полости, забрюшинного пространства, грудной клетки, удаление опухолей легких, печени, органов мочеполовой системы, забрюшинных новообразований, органов средостения — все они идут эндохирургически. Но там, где это ранние стадии. У нас, к сожалению, много больных, которых так не прооперируешь, поэтому приходится выполнять много открытых операций большого объема. Буквально вчера директор института Андрей Борисович Рябов оперировал ребенка с адренокортикальным раком — редкая опухоль с прорастанием в печень. Мощная операция. И такие приходится выполнять каждый день.
— А каков прогноз?
— Хороший. Операция удалась, дальше ребенок будет получать специальное лечение под контролем врача-эндокринолога. Здесь мы достигли великолепных результатов по сравнению со взрослой онкологией. Лекарственное лечение стало развиваться заметными темпами. Когда я пришел, у нас на вооружении было всего два препарата. Мы использовали их для всех больных, независимо от типа и локализации опухоли. А потом стали появляться новые группы препаратов, и за счет этого увеличилась возможность радикально оперировать больных. Выросла выживаемость при этих болезнях, потому что на первом этапе проводится лекарственное лечение, что позволяет максимально сокращать размеры опухоли. Я говорю о солидных опухолях, не о лейкозах, при которых всё то же самое, только без хирургии. Благодаря всему этому при опухолях щитовидной железы, слюнных желез выживаемость сегодня достигла почти ста процентов, при опухолях печени и почек мы имеем порядка 80 процентов выздоровлений. Остеосаркома — «злая» опухоль, прогноз по которой во взрослой клинике считается неблагоприятным, у нас же выздоравливают 60–70 процентов детей. Есть, конечно, и сложности. Скажем, опухоли центральной нервной системы, мягких тканей, нейробластома идут тяжело. С ними пока совладать столь успешно не получается.
— Владимир Георгиевич, нет ли у вас ощущения, что чем больше мы придумываем средств борьбы с раком, тем он становится агрессивнее и изощреннее? Как будто природа задумала это специально.
— Зачем это нужно природе?
— Чтобы регулировать численность вида.
— Для этого существуют войны и другие беды. Примерно раз в сто лет происходят катаклизмы, которые приводят к снижению численности населения.
— То есть вы считаете, войн достаточно, зачем же еще и рак?
— Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос.
— А как вы думаете, удастся ли когда-нибудь победить рак?
— Думаю, да. У нас в институте даже есть песня, которую мы считаем гимном детского онколога. Мы написали её в молодости. И там есть такие слова: «Прививки против рака детям будут делать в нашем ОНЦ». Сорок лет назад мы это написали!
— Выходит, вы это предвидели?
— Конечно, это пока не на сто процентов эффективно, однако сейчас активно разрабатываются биологически вакцины, и я думаю, мы на правильном пути, потому что это очень перспективное направление.
— Слышала, создается единый электронный канцеррегистр, куда будут заноситься все без исключения дети, страдающие онкологическими заболеваниями.
— Это было бы великолепно. Если бы вся информация о таких детях от самого начала заболевания в динамике прослеживалась бы на всех уровнях, мы могли бы знать, что, скажем, во Владивостоке сегодня обнаружен случай такого-то заболевания, и его фиксируют в федеральном центре, где это умеют лечить. Имея такой регистр, можно определить оптимальную схему лечения для каждого ребенка. Мы хотим к этому прийти. Действительно, сейчас активно развиваются телемедицинские консультации, многие центры связаны между собой. Это ускоряет процесс постановки диагноза, планирования лечения. Например, где-то, скажем, в Свердловской области, есть пять больных, которые сейчас находятся на этапе химиотерапии, а в августе их надо оперировать, и я могу быть готовым принять их здесь. Для этого нужен такой регистр, где все пациенты учтены.
— Реально ли его создать?
— Это очень непросто, хотя, я думаю, возможно. У нас не так много детей. Для взрослых это было бы куда труднее, но ведь у них существует развитая схема онкологической помощи. В каждом регионе есть как минимум областной онкодиспансер. А есть еще районные, где могут оказать помощь 1–2 уровней — это проведение стандартной химиотерапии, небольших хирургических вмешательств. Для детей таких учреждений нет. У нас только в восьми регионах есть отделения на базе онкологических диспансеров, все остальные расположены в областных или краевых детских и клинических больницах. Но и это зачастую не оправдано, потому что там нужен ряд специалистов, особые условия, которые обеспечить непросто.
— Так что же, эти отделения не нужны?
— Наоборот. Такие отделения должны быть в каждом регионе, но они, на мой взгляд, должны быть укрупнены. Скажем, в регионе в течение года заболевает 15–18 пациентов. Половина — это гемобластозы, то есть заболевания крови, остальное — солидные опухоли. Это ни уму, ни сердцу, потому что врач, занимаясь столь небольшим числом пациентов, не имеет нужного опыта. В рамках своей компетенции он может провести только стандартное, несложное лечение, поддерживающую терапию, обследование между курсами химиотерапии. Моя точка зрения — надо делать большие региональные центры, как сделали, например, в Свердловской области. Построили центр, наполнили его аппаратурой и лабораторной базой. Теперь туда можно концентрировать пациентов из всего уральского региона. Мелкие подразделения не нужны — они убыточны и неэффективны, потому что больным нужна современная диагностика — иммуногистохимия, иммуноморфология, молекулярная биология, цитогенетика, МРТ, КТ, ПЭТ-КТ, радиоизотопные и сосудистые методы исследования и так далее. Делать это в каждом населенном пункте совершенно не нужно. С государственной точки зрения я вижу перспективу в создании таких центров в каждом федеральном округе, и этого было бы достаточно для нашей службы. Укрупнение, а одновременно — обучение врачей, в том числе за границей. Более сложные методы, в частности ядерные технологии диагностики и лечения, которые сейчас развиваются и внедряются в нашей стране, должны проводиться в Федеральных центрах.
— А чем же займутся врачи на местах?
— Они должны обследовать и фильтровать больных, у которых есть подозрение на опухоль, и сразу направлять ребенка в окружной центр, где в течение короткого времени проводится вся современная диагностика. Диагноз будет подтвержден, уточнен или снят. При возможности в таком центре проводится комплексное лечение. В случаях, когда это выходит за рамки компетенции команды врачей окружного центра, больные направляются в федеральные научно-практические центры, где может быть осуществлена высокотехнологичная помощь этой категории больных. У нас же сейчас происходит совсем иначе: поставили диагноз, направили в одно место, в другое, в третье, там назначили одно, тут другое… В конечном счете что получается? Поздняя диагностика и запущенный случай. Пусть лучше это будет гипердиагностика. С этим мы нередко сталкиваемся в Москве. Но это будет дешевле, чем потом лечить больного, если диагноз не был поставлен вовремя. Кроме того, там ведь можно всю диагностику сконцентрировать в одном месте, чтобы она была не разбросана. Там будут классные специалисты. Ясно, что человек, который раз в год встречает пациента с тем или иным диагнозом, не может обладать необходимым опытом. А есть регионы, где вообще нет нужных специалистов. Тут же будет налажена профессиональная служба подготовленной команды врачей, которые разбираются в конкретных заболеваниях, консультанты, дежуранты. Такая схема существует во всех развитых европейских государствах. Хотя там, конечно, проще — всё рядом. А у нас огромная страна, необъятные просторы. И решить все эти проблемы значительно сложнее. Но эти опорные пункты детской онкологии решили бы многие проблемы.
— Владимир Георгиевич, вы говорите, что детская онкология — трудная морально и физически профессия. Как вам самому удалось к этому привыкнуть? Или не удалось?
— Это очень сложно. Сейчас, конечно, у меня работа уже несколько иная — больше хирургическая и административная. А когда я был помоложе и непосредственно вёл этих больных, был в постоянном контакте, они становились как родные, как свои дети. И вот ты их лечишь, они на тебя смотрят широко открытыми глазами, рисунки дарят. Всё идет хорошо — и вдруг резкое ухудшение, рецидив, метастазы, и ты теряешь ребенка. Было всё — слёзы, истерики, намерение уходить. Нельзя привыкнуть к детским смертям. Невозможно. И родители к тебе приезжают, как к родному человеку, ждут от тебя чего-то, и если ты не смог — казнишь себя.
— Они ждут чуда.
— Да, ждут спасения. И таких случаев спасения на самом деле много. Я каждый праздник получаю пачки поздравлений от родителей детей, которых удалось вытащить из объятий болезни. Среди них есть и те, кто 25–30 лет назад у меня лечился. Эти дети уже сами стали родителями. Но бывает и по-другому, и это невероятно трудно пережить.
— Какими же аргументами можно заманить молодежь в эту профессию?
— Детская онкология — это очень интересное, перспективное направление науки. Конечно, можно сказать, что всё интересно — скажем, хроническая лёгочная недостаточность или вирусные инфекции. Но ни в одной другой области медицины нет сейчас столько нового и интересного, как в онкологии. И ничто другое настолько не актуально. Когда я завершал обучение в институте, не было никакой детской онкологии. Впервые услышав про эту специальность, я даже не очень понял, о чем идет речь. А сейчас она развивается бешеными темпами.
— И всё-таки — что происходит? Почему случаев рака становится всё больше? Особенно это касается детского рака, когда, казалось бы, никаких накопленных мутаций еще быть не должно.
— Наверное, это связано со средой обитания. Техногенные катастрофы, питание, насыщенное консервантами. Сейчас всё чаще стали диагностировать внутриутробные случаи рака, когда ребенок еще не родился, а мы уже знаем, что у него будет, и заранее готовимся к операции или к лекарственному лечению. Раньше такого не встречалось.
— Это расплата за нашу техногенную цивилизацию?
— Да, думаю, это так.
— Можем ли мы что-то с этим сделать? Может быть, надо меньше принимать лекарств? Ведь есть тенденция: чуть что — антибиотик или анальгетик.
— Да, тенденция есть. Я большой противник такого подхода. В моей семье царит правило: лекарство — только при необходимости. У меня был старший брат, который знал только одно лекарство — зеленку. И прекрасно себя чувствовал, ничем не болел.
— Вы тоже пользуетесь только зеленкой?
— Стараюсь.
— Что еще? Позитивный настрой? Устойчивость к стрессам? Спорт?
— Всё это очень важно. Избежать стрессов мы не можем, но есть правильная пословица: если ты не можешь изменить обстоятельства, измени себя, своё к ним отношение. Подвижный образ жизни также немаловажен. Я сам всю жизнь в спорте. В юности занимался волейболом, боксом, футболом, был вратарем. Потом перешел на большой теннис, но появилась проблема с локтем. Сейчас с удовольствием играю в настольный теннис. И плаваю в бассейне, хотя терпеть это дело не могу.
— Почему?
— Тупое занятие. Не творческое. Плывешь туда, потом обратно… Вот море обожаю, могу плыть далеко и сколько угодно.
— На что нужно обращать внимание педиатрам и родителям в состоянии детей, чтобы не пропустить тревожный случай?
— Обращать внимание нужно на всё. Любые затянувшиеся состояния, не поддающиеся обычным методам лечения, должны вызывать тревогу. Каждая болезнь должна быть разрешена за определенный период времени. Полечили кашель неделю, ну две. Не проходит — это сигнал тревоги. Диагноз, который ставит педиатр, например, ОРВИ, не может длиться больше недели. Если это пневмония или воспаление среднего уха, это тоже не должно продолжаться дольше двух недель. Если назначенное лечение оказывается неэффективным, болезнь продолжается или усугубляется, — заподозрить неладное и направить ребенка на обследование. Например, головные боли. Врач говорит: устал, переутомился в школе. Может такое быть? Конечно, может. Но вот отдохнул, выспался. А головные боли не проходят, нарастают. Показали ребенка неврологу. Тот назначает препараты сообразно своим представлениям о болезни. А в это время в головном мозге вырастает опухоль. Не надо ждать грозной симптоматики — судорог, рвоты, парезов. Лучше направить ребенка к онкологам. Мы активно ведем просветительскую работу среди педиатров. На нашем сайте есть большой раздел для специалистов, где обо всем этом можно подробно прочитать. И отдельно — для родителей, чтобы они знали, на какие симптомы надо обратить особое внимание, чтобы не упустить серьезное заболевание. Каждый желающий может зайти на сайт и получить всю интересующую его информацию: http://pediatriconcology.ru/
Беседу вела Наталия Лескова