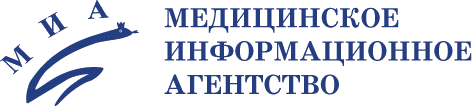Беседа с основателем столичной службы Медицины катастроф, академиком Международной Академии космонавтики, доктором медицинских наук, профессором Л.Л. Стажадзе
Леван Лонгинозович Стажадзе – известный советский и российский врач-анестезиолог, доктор медицинских наук, профессор. Стал руководителем первого в стране отделения реаниматологии в Институте Скорой помощи им. Склифосовского, а в 1972-87 г.г. руководил отделом медицинского обеспечения пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем. Один из организаторов и вдохновителей Московской службы медицины катастроф, он и по сей день трудится главным научным сотрудником в созданном им Центре экстренной медицинской помощи ДЗМ.
Леван Лонгинозович – из тех собеседников, кого можно слушать часами, и всё равно времени не хватит узнать обо всех потрясающих деталях его биографии – грустных, смешных, поучительных, исторически значимых, поскольку зачастую речь идет об отнюдь не проходных фактах отечественной истории. И фамилии людей, которых он хорошо знал, известны всем или очень многим. В честь одних названы институты, другие, наоборот, стали зловещим символом ушедшей эпохи. Но, как бы мы к этому ни относились, всё это – часть нашей истории, которая, как известно, не знает сослагательного наклонения.
– Леван Лонгинозович, ваш папа был основателем легендарного ресторана «Арагви» в Москве, знаменитым кулинаром. Наверное, много раз там бывали?
– Да, приходилось. Дело в том, что у нас разница с рестораном один год. Я на один год старше. Я родился в 37-ом, а ресторан открылся в 38-ом.
Мама перепугалась. А папе в это время было ни до кого, потому что оставалось несколько месяцев до открытия ресторана. И мама благополучно уехала в деревню в Грузию, где родилась и выросла. Глухая деревня Курсеби километрах в 20 от Кутаиси, в горах. Там был один-единственный фельдшер. Но всё обошлось.
– Значит, вернулись вы в Москву, а тут уже ресторан!
– Надо сказать, папа работал в «Арагви», а приходил обедать домой.
– Почему так?
– А потому что мама готовила изумительно.
– Лучше, чем в «Арагви»?
– Не знаю, лучше ли, но несколько раз мама готовила для самых высоких, самых первых лиц тогдашнего государства – готовила сациви. Настоящее сациви вы вряд ли получите сегодня в Москве. Его очень сложно и долго готовить.
– Неужели сациви, приготовленное вашей мамой, Сталин ел?
– И нахваливал. Кстати, его сын, Василий, даже мне в 47-ом году подарил велосипед. В том же году на ближней даче я у Иосифа Виссарионовича на коленях сидел.
– Да вы что! И он никого из ваших родных не обидел?
– Нет.
– Вам повезло крупно. Моего деда в 37-м расстреляли.
– Могу сказать, что время было очень суровое. И не дай Господи его повторить. Но вы знаете, я просто поражаюсь, с каким удовольствием люди друг на друга писали доносы. Зачастую никто их не вынуждал, не подталкивал.
– Это было в крови?
– Да. Худшее, что было, выплеснулось тогда наружу.
– А когда вы у него на коленях сидели, не было страшно, не по себе?
– Нет. Я ребенком был. Не понимал. Да и вообще я считаю, что то время до конца никем не понято. Папа, между прочим, не только на ресторан работал. Он очень много обслуживал госдачи – Сталин, Молотов, Каганович, для которых они готовили какие-то грузинские блюда. А к поезду Москва-Тбилиси был прицеплен специальный вагон, в котором привозили свежую продукцию – зелень, фасоль, всё для хинкали, сыры, вина, подливы. Отец лично следил, чтобы в ресторане не подмешали какую-нибудь дрянь. Он в ресторан приходил к 6 утра, а домой возвращался в 23 часа.
Главный куратор ресторана был Микоян, министр легкой и пищевой промышленности. И вот он отцу много раз говорил: молодец, когда будем открывать армянский ресторан, мы тоже это учтем, – чтобы все названия были, как сейчас говорят, аутентичные. Так же, как решили открывать ресторан «Узбекистан» – и там все названия блюд на узбекском. Говорил: это замечательно, потому что мы единая страна и должны понимать и уважать друг друга.
– Знаю, ресторан «Арагви» пользовался бешеной популярностью, попасть туда было трудно. Как вашему папе удалось этого добиться?
– У папы было всего четыре класса образования. Но у него имелась такая благодарная особенность – он очень любил слушать разного рода беседы. Особенно ученых. И у него была главная задача – меня продвинуть в науку. Видимо, для этого он к нам домой приглашал разных выдающихся ученых. У нас бывал, например, великий хирург Александр Александрович Вишневский.
– Зачем они приходили к человеку без образования, что их прельщало? Вкусная еда, приготовленная вашей мамой?
– Наверное, им нравилась сама атмосфера гостеприимства, которая у нас царила. Это грузинская традиция. Мама-то выросла в Грузии. Причем это не то что обязательно изыски. Это может быть и чай с хачапури. А сациви у нее постоянно было наготове. Она его готовила перманентно. Папа умел создавать компании – если приглашал двух-трех артистов, то обязательно звал ученых или врачей. Он говорил, что компании из коллег обычно бывают скучными.
– У вас ведь и люди искусства бывали?
– Да, известные артисты: Кторов, Яншин, Лепешинская, Раневская, дирижёр Файер из Большого театра. Хорошо помню очень доброго и уважительного в общении художника Налбандяна. Папа их всех считал своими друзьями. Да так оно и было. А меня от всех этих умных разговоров тянуло во двор к ребятам, в подвал. У нас все подвалы были забиты. Все мои ребята, друзья, с кем я учился в школе, там жили. Поэтому у меня все детство прошло то на даче у Микояна, то в подвале у Витьки. А то побежали на Трубную драться – и в тот же день в Большой театр…. Знаете, для меня «Баллада о детстве» В.С.Высоцкого очень близка. Довольно много времени, по три летних месяца, я проводил в Грузии, в деревне, где родился.
– Сейчас там кто-то живёт?
– Сейчас там уже никого из наших не осталось. А были мои дядьки, тетки, двоюродные братья и сестры. У папы было девять братьев и сестер, у мамы – семь. Как говорил папа, а что делать в горах? Темнеет рано, кино нету, радио нету, цирка нету. Говорит – только детей рожать.
– Вы собирались поступать в химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева. Почему же не пошли?
– Очень хотел. Грезил химией. Мало того: вместе с моим другом, с которым за одной партой отсидели 9 лет, уже шли подавать документы. И нас брали. Мы отлично знали химию. И тут мама мне говорит: идите лучше в медицинский. И его мама то же самое. Моя мама была фельдшером по образованию. Ну, мы и решили попробовать. Я говорю: давай так, раз они просят, я пойду в Первый, а ты во Второй. Где лучше будет, туда оба потом перескочим. Дурная такая, детская штука. Вот так и пошли.
– Но вы потом перешли во Второй. Там оказалось лучше?
- Это очень разные вузы. Первый медицинский – он, конечно, был поинтеллектуальней. Он компактный, всё в одном месте, и все профессора между собой лучше общались. А Второй медицинский, честно говоря, более жизненный, он разбросан по всей Москве, профессура общается только на ученых советах. И там, и там есть свои плюсы. А в Первом меде, когда я пришел, все КВНщики как раз в это время только рождались. На два курса старше меня был Алик Аксельрод, который и создал КВН. Там был и Лившиц, и Левенбук, который сейчас руководит Шалом-театром, а в те времена с блеском дуэтом исполняли «Радионяню» и другие песни. Был и Аркаша Штейнбок, всем известный как Аркадий Арканов, Фима Шульман, Миша Кандрор его старший брат стал автором замечательной песни-гимна «Помнишь, друг, как ночь перед экзаменом проводили мы с тобой без сна…»
– Все люди определённой национальности, прошу прощения.
– Самое интересное, что я был худой, с большим таким носом, и тоже с удовольствием участвовал во всех капустниках. И когда дело дошло до составления списков участников на новый год, идет как раз Аркашка Штейнбок, царство ему небесное, и спрашивает меня – как твоя фамилия? Я говорю – Стажадзе. А он так головой покачал и говорит: старик, ты нас подвел. Да, хорошие были времена. А почему я оттуда перешёл во Второй мед – отдельная история. Это уже был второй курс, и на новый год меня поймал редактор стенной газеты. И говорит: какую-нибудь шутку выдай новогоднюю. Я подумал: ладно, нарисую Деда Мороза и Снегурочку. Ну и Дед Мороз спрашивает Снегурочку: ты куда идёшь, на ёлку? А Снегурочка отвечает – нет, дедушка, я на палку. Не очень приличная, конечно, шутка, но всем понравилось. Напечатали – меня вызывают в райком комсомола.
– Ничего себе!
– Да, дело серьезное. Я позвонил папе. Он посмеялся, а потом позвонил какому-то очень известному адвокату, и тот посоветовал, как мне себя вести в райкоме. Оказывается, в это время (это я вам рассказываю тайную историю), за неделю примерно до этого случая, в газете «Правда» была статья о том, как корреспондент обошел несколько рынков в Москве и выяснил, что очень некачественные продают елки. И он написал: «Они не столько елки, сколько палки». Когда я приехал в райком, где были готовы вытурить меня из комсомола, а это означало автоматом отчисление из института, задают вопрос – что вы имели в виду? Я делаю огромные глаза и говорю: товарищи, в газете «Правда» такого-то числа такой-то корреспондент написал, что в Москве продают некачественные елки, которые не елки, а палки. Вот именно это я и имел в виду. Ну, хохот стоял, скажу я вам, на весь райком комсомола. Ну, а мне влепили выговор по комсомольской линии. Естественно, весь институт об этом знал, все смеялись, подкалывали.
А потом вызвал меня ректор и говорит: ты не хочешь во Второй мед перейти, чтобы скандал замять? Ой, говорю, у меня там друг учится, конечно, хочу! Так вопрос и решился. Так я распрощался со всей своей этой командой. Но потом, поскольку я был уже заряжен этими КВНовскими идеями, когда во Второй пришел, нашел несколько ребят, и мы создали свой ансамбль. Назывался «Мечта». Тоже было весело. Хулиганили немножко. Выступали. Была, например, такая шутка. Стоим на сцене, все в хирургических костюмах, в масках, вокруг стола. Стол не видно. Вроде как идет операция, стоит звон хирургических инструментов, а мы поём: «Всегда быть в маске – судьба моя!» Это тогда была очень популярная ария Мистера Икс. Слова, конечно, переделали, как всегда. А в конце расходимся, и зрители видят, что это на самом деле стол с закусками. В те годы с А.В.Масляковым даже как-то пересекались. Он в это время в Авиационном учился. У них был коллектив – назывался «Телевизор». А КВН стал уже потом.
– Значит, вот так, с шутками и прибаутками, вы закончили медицинский институт. И стали участковым врачом…
– Ой, это тоже интересная история. Дело в том, что на меня был запрос из института, которым руководил Вишневский. Они с папой были друзья – не разлей вода. И ко мне он тоже хорошо относился, считал умным, шустрым. Говорил: всё, Лонгиноз, Левана только ко мне. Из него сделаю отличного хирурга. А я ведь и хотел быть хирургом. Всё складывалось наилучшим образом. И сделал запрос. И вот наступает день распределения. Это было 12 апреля 1961 года. Ничего не говорит вам цифра?
– Ну еще бы. Первый космический полёт! Юрий Гагарин.
– И вот представьте: я захожу, сидит комиссия, председатель, директор института Марья Гавриловна Сироткина, все смотрят на меня, и тут влетает человек и кричит: мы запустили человека в космос! И все тут же про меня забывают и куда-то бегут. Ажиотаж был просто сумасшедший! Минут 20 никому было не до меня, мне тоже было ни до кого. И вот, наконец, все опять садятся, у Марьи Гавриловны глаза горят, у меня тоже. И вот она с большим воодушевлением говорит: сейчас наступили особые времена, люди вступили в новую эпоху и будут совсем по-другому осваивать окружающий нас мир. Это всех нас, говорит, невероятно обязывает и побуждает совершать великие поступки. На вас есть запрос. Итак, ваше решение ? И я на одном дыхании говорю – в городскую поликлинику!
– Но ведь собирались к Вишневскому?
– Конечно! До этого момента думал, что пойду к нему. Но тут я поддался всеобщему порыву энтузиазма и выбрал то место, где никто меня не ждал и не опекал. Решил сам! Отец меня, конечно, чуть не убил. Говорил: сейчас я позвоню, всё перерешим! Но я был твёрд: нет, я уже пообещал и пойду работать в поликлинику.
– Пожалели?
– Никогда. Это колоссальная школа. Я считаю огромной ошибкой то, что отменили распределение после института, особенно медицинского. Это помогло бы решить многие проблемы. И поликлиника – это величайшая школа для начинающего врача.
– А вы помните своего первого пациента?
– Их было так много, что уже и не вспомню. Прием был неограничен, человек 20-30 за день. Я попал в новую поликлинику на Рабочей улице. Был, можно сказать, первопроходцем.
– Почти как Гагарин…
– Поликлиника №4. Там вокруг еще была «деревня». Но само здание поликлиники было хорошее, по тем временам современное. Мы создавали участок с нуля. Я знаю, что такое диспансеризации, я понял, что такое работа участкового врача, я много читал. Особенно старую литературу. Дело в том, что, когда ходишь по домам, у тебя, так же, как на скорой помощи, очень мало диагностических средств для того, чтобы оценить состояние пациента. Здесь надо старую школу знать, чтобы без аппаратуры понять, что происходит с человеком, как ему помочь. По анамнезу, внешнему виду, по многим косвенным признакам можешь почувствовать и оценить состояние человека. Это для врача очень важно, потому что ситуации бывают разные. Нельзя это сбрасывать со счетов и сегодня.
– Уже тогда, значит, началась оптимизация в здравоохранении.
– Да. В эти годы появилось понятие «экономическая эффективность». Боюсь этого словосочетания ужасно. Ни к чему хорошему всё это не приводит. Не привело и в нашем случае. Раньше в каждой поликлинике каждое утро приходил главный врач, все заведующие и дежурные докладывали, какие были вызовы, какие случаи, диагнозы были поставлены. Всегда было известно про каждый новый вызов – скажем, похоже на язву желудка. Сразу идет информация участковому врачу – так, пиши, пойдешь сегодня, сделаешь актив. Дальше я докладывал: опять вызывала женщина с бронхиальной астмой. Какой был вызов по счету? Девятый? Так, заму по лечебной части позвоните, пусть её на две недельки положат для профилактики в больницу. Всех больных мы знали. Если новые появлялись – сразу прикрепляли. Реагировали на всё. Никто не оставался для нас незамеченным. Когда всё объединили – никому дела уже не было. Никакие главные врачи нас не собирали. Самое ужасное, знаете, что было? Когда поликлиника сама отвечала – врачей ставили на дежурства хороших, ответственных, грамотных. А когда объединили – стали посылать пьяниц и прогульщиков, как бы в наказание.
Еще (по совместительству, тогда разрешалось до двух ставок) я работал подростковым врачом. У меня было два училища. Швейное и поварское.
– Девицы к вам молодые, красивые пошли?
– В швейном училище я понял, как может поза влиять на формирование различных заболеваний позвоночника. Они ведь очень неправильно сидят, когда шьют. А в поварском училище я понял, как может развиваться гипертоническая болезнь.
– А как?
– Там ведь очень сложный температурный режим, то жарко, то холодно. Плюс все время можно что-то есть. Это ведет к раннему ожирению. Гипертонии. Самое интересное, что у меня даже первое мое повышение квалификации было в институте профзаболеваний, и там я прослушал несколько замечательных лекций относительно влияния разных экстремальных ситуаций в развитии юношей и девушек. На самом деле известное выражение: всё у нас с детства – правильное. В детстве закладывается очень многое. И то, что влияет на нас в детстве, откладывает отпечаток на всю жизнь. Вот мы, например, дети войны. Я в школу пошел в 44-м году. И первый урок у нас был, знаете какой? Десятый класс за нами зашел, взял за руку, и мы спустились в бомбоубежище.
– Это был первый урок?
– Да, покидание класса в случае объявления тревоги. Тогда это было главным – научиться выживать. Все наши учителя были полукалеками, которые прошли войну и получили там ранения. И это тоже, видимо, отложилось навсегда. Я всегда понимал высокую ценность жизни и здоровья.
– А как вы попали в Институт Склифосовского?
– Еще одна интересная история! Еще когда я учился классе в девятом, один наш дальний родственник, Чахунашвили, работал в институте Склифосовского. Потом он уехал в Тбилиси, стал профессором, академиком, серьезный хирург. И тогда он мне говорит: я сегодня буду ответственным дежурным хирургом по институту и тебе покажу операционную, пойдем. Я с ним пошёл, и всё увиденное, конечно, запало мне в душу. И когда уже закончились мои три поликлинических года, я решил, что пойду в институт Склифосовского. А водитель, с которым я работал в неотложке, помогал Борису Александровичу Петрову машину чинить. А Петров был академик, научный руководитель института, ученик Юдина. И я решил пойти прямо к нему. Был 1964-й год. В Склифе тогда работали великие хирурги. Царила железная дисциплина. Это была юдинская школа. Скажем, когда Ольга Виноградова, которая была ассистентом Сергея Сергеевича Юдина, один раз опоздала на 15 минут – он ее выгнал. Сказал – больше ко мне не приходи.
– С операции выгнал?
– Вообще. Из института. Уходи и где хочешь, там и работай. А она была, на минуточку, женой министра здравоохранения. Через полгода после того, как она ушла, он говорит – где эта самая, министерша-то? Пусть завтра приходит на операцию.
– Потрясающе.
– Травматологи хорошие были. Мощные. Короче говоря, когда мой трехлетний срок работы в поликлинике закончился, водитель сказал Борису Александровичу – у меня есть шустрый мужик, он вызовы делает, всех принимает – возьми его на работу. А на самом деле я весил чуть больше 47 килограммов, но был, действительно, очень подвижным. Он говорит – пусть ко мне приходит. Я прихожу к Борису Александровичу, он говорит – ну что, кем ты хочешь быть? Я говорю, Борис Александрович, хирургия мне очень нравится. Но сейчас, когда развивается новая специальность – анестезиология, мне бы хотелось поработать в этом направлении. Хорошо, говорит, давай. А как, говорит, твоя фамилия? Я отвечаю – Стажадзе. – А Лонгиноз кто тебе? – Папа. – Как папа? А что же ты молчал?
– А раньше его не было?
– Нет. В институте Склифосовского был противошоковый кабинет. Это было еще по заветам Пирогова затемненная комната, полная тишина, всё должно быть изолировано, больной должен быть в тишине. А тут решили создавать отделение по всем существующим современным мировым стандартам. Долго думали, кто же будет заведовать этим отделением, Петров меня вызывает и говорит – слушай, у тебя есть опыт работы в операционной. Это правда. В операционный блок он меня назначил через два месяца после начала работы, оптом я заведовал этим блоком. А там 90 девушек и женщин. Надо знать, что операционные сестры – это особая каста. Если ты им не понравишься – сожрут в один момент. Причем так лихо, что ничего не сделаешь. А мне кто-то посоветовал: у тебя кардиограф, так ты им скажи, что, мол, девчонки, кому надо – я кардиограмму сделаю.
– И сразу полюбили?
– Да, сразу и взаимно. Ну, в общем, назначили меня руководить этим новым отделением – реанимацией. Опять всё с нуля. Но и этот период моей жизни оказался очень плодотворным и интересным.
– А потом вас «догнал» космос, который так неожиданно ворвался в вашу жизнь 12 апреля 1961 года…
– Да, было дело. В это время начинались длительные полеты. Аветик Игнатьевич Бурназзян, который был тогда Первым зам министра здравоохранения, курировал космическую медицину. Бурназян – это великий человек. С очень интересной биографией, и абсолютно государственный деятель.
Тогда главным анестезиологом был ныне здравствующий академик Армен Артаваздович Бунятян. Прекрасный анестезиолог и человек. И вот ему поручают создать списки молодых анестезиологов, которые смогут работать в полевых условиях. Нас было 18 человек. Из института Петровского, из института Вишневского, из нашего Склифа, еще откуда-то. И мы там написали всё, чем владеем. А я уже реанимацией заведовал. Анестезиологию прошел. И когда он увидел, что у меня есть опыт терапии практически при всех жизнеопасных состояниях, то сразу заинтересовался. Многие ребята, хотя были хорошие, знающие, но владели чем-то одним – пульмонология или, например, желудок. А им нужны были более широкие специалисты. Тем более институт Склифосовского не так хорошо оснащен, значит у него есть клиническое мышление.
Общение с Бурназяном всегда было сугубо по делу. У него была секретарь, Наталья. Мы с ней потом очень подружились. Вот она и говорит: через пять минут он вас примет. На вопросы отвечать коротко, но никаких сокращений, всё полностью, максимально по делу. Несет два стакана чая, открывает дверь, говорит – проходите. Захожу, сажусь. Бурназян на меня смотрит и спрашивает: грузинский знаешь? Да, отвечаю, говорить умею, писать, читать нет. – Ты смотри, говорит, как я! В Москве учился? – В Москве. – В поликлинике работал? – Работал. – На неотложке работал? – Работал. – Анестезиологию знаете? – Многие наркозы при разных патологиях давал. – Реаниматологию тоже немножко знаешь? В общем, мы тебя хотим привлечь к секретной работе.
– Вы еще не знали, о чем речь?
– Нет, не знал. Он говорит: знаю, у тебя допуск есть. А у меня допуск был, потому что Склиф работал еще по атомной программе. А тут он мне рассказывает, что речь идет о длительных космических полетах. Вот с этого момента, говорит, то, что мы с тобой говорим, должно быть между нами. Ни жене, ни маме, ни друзьям, никому не говори. Договорились? Я говорю – да, договорились. Значит, продолжает, будут длительные полеты, мы тебя поставим в состав бригады неотложной хирургической помощи ПСС ВВС– у них нет анестезиологов, реаниматологов. Ты нужен. Перед этим надо будет съездить в «Звездный городок», специалисты вам расскажут про скафандры, про то, как надо работать со спускаемыми аппаратами.
Думаю – ё-моё, вот попал. Говорю осторожно: Аветик Игнатьевич, а ведь в институте у меня очень много дел.
Он говорит – надо напрячься. Вообще подумай, может быть, ты совсем перейдешь в Институт медико-биологических проблем. Я говорю – нет, Склиф я не хочу бросать, об этом даже не может быть речи.
Он говорит – ну подумай, всё может быть. Я спрашиваю: а можно мне отказаться? Он засмеялся: у меня в кабинете отказаться? Да ты что!
– Вот так. Даже не обсуждая.
- Вообще – ты коммунист или нет, – он меня спрашивает. Я говорю – нет. А ты что-нибудь против партии имеешь? Я говорю – против партии ничего не имею. А почему не вступил? Комсомольцем был? Комсомольцем был, правда, выговор есть. – А за что? Когда рассказал, он чуть под стол не упал. Особенно позабавило его то, как научил меня адвокат. Молодец, говорит, он тебя здорово научил. Видишь, говорит, газета «Правда» тебе помогла, а это коммунистическая газета. Так что не задавай лишних вопросов.
Вот так я и попал туда. Первый полет я встретил, когда летали Шаталов, Елисеев, Рукавичников. У них не получилось стыковки со станцией. Спустились. Чистое поле, в вертолете особо ничего нет. Взяли с собой какие-то инструменты, но ими мало что сделаешь. Я тогда пришел к Бурназяну и говорю: Аветик Игнатьевич, это опасно, нужен наркозный аппарат, стол операционный. Он отмахнулся: ты сейчас такого наговоришь! Я настаиваю. Говорю, я видел, как летит этот самый шарик, спускаемый аппарат, и понял, какая это «мягкая посадка». Ты зря говоришь, отвечает, там всё предусмотрено. Я опять не соглашаюсь: нет, что вы, ребята всего сутки побывали на орбите – еле на ногах стояли. Нет, надо это всё, говорю.
– Боже мой! Это тоже вы встречали?
– Да. А на место посадки прибыли несколько вертолетов с уважаемыми людьми, с оркестром и пионерами. Ну, естественно, руководство, генералы. Когда открываем – там трупы. У меня вырвалась фраза – без признаков жизни. И она так потом и пошла «в эфир» и в народ.
Тут же все улетели. Тут же. Сразу начинает работать комитет. За 10 минут расчистили нам поле. Долго их вытаскивали. Это было трудно. Аппарат на боку, они лицами вперед, зафиксированы лямками, туда подлезть почти невозможно… Провели всю сердечно-лёгочную реанимацию. Первое, что я сделал, вколол в сердце иглу – у меня вылетел поршень. Черная кровь, вспененная. Я сразу понял, что это взрывная декомпрессия. Вскрыл вену, а оттуда тоже черная, вспененная жидкость. Но, тем не менее, искусственную вентиляцию и непрямой массаж сердца мы сделали, всё провели, записали.
Затем нас всех погрузили в АН-12. Это очень большой транспортный самолет, в котором в том числе поместился спускаемый аппарат. Ну, а мы в гермокабине. По площади это половина моего кабинета. Три трупа и нас 12 человек. И так летим шесть часов в Москву. Прямо как есть, перемазанные, перепачканные. Сажают нас в машину на аэродроме Чкаловский и прямым ходом в военный госпиталь Бурденко. Там нас встречает Бунятян. Приезжают члены комиссии – Бурназян вместе с Петровским, с Керимовым, Смирнов приехал – председатель ВПК.
Бунятян мне говорит – что было? Я говорю – взрывная декомпрессия. Он говорит – ты всё делал? Я говорю – абсолютно всё. Ребята комитетские всё сфотографировали, и на кинопленку всё сняли. Два часа мы сидим в отдельной комнате. Все, кто были на месте посадки. Два часа идет описание. Там целая когорта была патологоанатомов. Потом начинается вскрытие, выносится диагноз – взрывная декомпрессия.
И тут нас начинают обихаживать. Ребята, вы, наверное, голодные, сейчас дадим вам покушать. Вот, ребята, здесь вы можете помыться. Сейчас дадим машины – и по домам. Я говорю своему приятелю: представляешь, если бы мы с диагнозом сейчас разошлись, что было бы. Он говорит – конечно, понимаю. Чего не понимать.
– И с тех пор приземление стали осуществлять только в скафандрах.
– Да, до этого случая все были уверены в этих спускаемых аппаратах – летали уже без скафандров. Хотя это неправильно, конечно. Если бы скафандры были тогда, они бы, конечно, травму получили, но это было бы что-то типа контузии. Не смертельно. Живы они бы остались.
На третий год работы, когда я уже перешел в ИМБП, надо было ехать на Байконур. В то время давали хорошие командировочные, потому что это считалось как боевое задание. И одни мой сотрудник, которому через день вылетать, набрался. И его со всеми документами, с допусками, с пропуском, с предписанием на Байконуру, то есть красными документами – забрали в вытрезвитель. Там он начал на всех орать. Его, конечно, быстро урезонили, все документы изничтожили, а ему вылетать надо.
И вот вызывают к Бурназяну. Перед этим прошу Бориса Егорова, врача-космонавта: Борь, смягчи. Он – конечно, я ему позвоню. Позвонил и говорит – нет, даже слушать не хочет. Дело, говорит, плохо. Я тогда Сенкевичу говорю: Юра, помоги. Сейчас, попробую с ним переговорить. Звонит: ты представляешь, даже слова не дал сказать. Ты все, говорит, сказал? Больше у тебя нет вопросов? До свиданья. Положил трубку. Приезжаю, Наталья на меня смотрит, головой мотает – плохо дело. Посиди, говорит, там человек, выйдет – посмотрим, скажет нести чай или нет.
– То есть, чай – это был признак доброго расположения?
– Ну да. Выходит какой-то человек. Заходит Наталья. Опять выходит, глаза закатывает – проходите, пожалуйста. Я захожу, он смотрит на меня и говорит – скажите, пожалуйста, товарищ Стажадзе…
– Уже страшно.
– А младший научный сотрудник П-ов у вас работает? – Так точно, Аветик Инатьевич. П-ов является нашим сотрудником. – А скажите, пожалуйста, что младший научный сотрудник П-ов делал в вытрезвителе? Какие решал вопросы? – Аветик Игнатьевич, разрешите доложить! Вместо младшего научного сотрудника П-ва на точку оформлен и уже летит старший научный сотрудник Титов, имеющий большой опыт работы в анестезиологии и реанимации. – Интересно. А кто такой Титов?
Это, говорю, человек, которого я решил подготовить параллельно. Он у нас не числится в штате. Но как запасной как раз в этот момент очень даже подошел. У него есть все формы допусков, мы ему всё успели оформить и он спецрейсом летит в Байконур. – Интересно. Он на меня смотрит и говорит: а что собираетесь делать с П-вым? Я говорю – немедленно расстаться. – А на каком основании? – Подвел в самый ответственный момент. – Хорошо. Ты еще можешь быть руководителем.
– Вот так. Полетел Титов?
– Полетел. Всё сделал. Все нормально.
– А П-ова уволили?
– Конечно. Вот я вспоминаю этот разговор с А.И. Бурназяным– ни одного лишнего слова. Если бы я начал мямлить, оправдываться – всё было бы иначе.
– А если б вы не подготовили человека?
– Всё. Выгнал бы на сто процентов.
– Но вас-то за что?
– Как руководителя. Руководители тогда, знаете, как отвечали? За всё. Загорелась крыша – руководитель снимается сразу. В то время даже разговора не было. Но это было правильно.
Но мой сотрудник не растерялся и говорит: Аветик Игнатьевич, я-то там первый раз был. Они говорят – на ТП, на ТП, а мне, честно говоря, неудобно было спросить, что это такое. Бурназян усмехнулся, оценил. Ишь ты, говорит, выкрутился!
– А что такое ТП?
– Техническая позиция. Кстати, перед длительными полетами состоялась важная Государственная Комиссия с присутствием готовящихся к полету экипажей. Про готовность медицины докладывал А.И. Бурназян. В конце доклада он поведал об усилении ПСС ВВС, завершив словами, которые стали крылатыми: «Дорогие космонавты, все предусмотрено, летайте спокойно, на Земле вас встретят лучшие реаниматологи Советского Союза!» Реакция, сами понимаете, была неоднозначной. А я иногда среди своих коллег по «цеху» в непринужденной обстановке напоминал, что был официально объявлен лучшим реаниматологом страны.
– Знаю, у вас немало патентов на изобретения.
– В ИМБП проходили эксперименты. Сотрудников-испытателей клали с опущенным головным концом кровати под углом минус 4-8 градусов на разные сроки. Так имитируется влияние некоторых факторов невесомости на организм человека, в том числе и перераспределение жидких сред. Ну, и на одном ученом совете я выхожу и говорю: у меня есть большая просьба – чтобы ученый совет разрешил нам попробовать разные виды наркоза, в том числе внутривенного. Это важно, чтобы мы понимали, что делать, если произойдет что-то на посадке.
– Членом которой вы сейчас являетесь?
– Да. Сначала избрали член-корром, а потом, когда мы ездили на одну из сессий в австрийский Грац с докладами по поводу проведения анестезии, возможности хирургических операций в космосе (у меня было уже 5 или 6 патентов на изобретения), избрали Действительным членом. Вот смотрите, шприц. Мы набираем лекарство, поворачиваем, нажимаем на поршень, воздух выходит, и мы делаем укол. В космосе, куда бы ни повернули, воздух с жидкостью не будет разделяться, а воздух вводить в вену опасно.
– Вы говорили, что наработанное еще в поликлинике клиническое мышление вам не раз пригодилось. В космической медицине тоже?
– Да, конечно! После завершения полета по программе «Союз-Аполлон» в какой-то момент у космонавта произошел отток крови, так называемая реадаптация после полета. А американцы уже идут со своими вопросами, интервью брать. Я его сзади беру, нажимаю на область диафрагмы и говорю – глубокий вдох. Он делает глубокий вдох – и у него происходит приток крови к голове.
– Какие еще бывали случаи, связанные с подготовкой космонавтов?
– Случаев было очень много. Один из космонавтов во время подготовки к полету на тренировке получил разряд электричества. В судорожном состоянии его отвезли в Центральный Научно-исследовательский авиационный госпиталь (ЦНИАГ). Вызвали меня. А я в Склифе много судорогами занимался. Я приехал, специальную схему с тотальной релаксацией с искусственной вентиляцией легких и инфузионной терапией провёл – он быстро восстановился. Впоследствии выполнил космический полет без замечаний.
– Это какая-то китайская медицина.
– Нет, это не китайская медицина. В наших старых книгах всё написано. И космонавт так сделал. Сердечный ритм нормализовался.
В другой полет мы послали на испытание дыхательный аппарат «Фаза-2». И в один из полетов головная боль на уровне дискомфорта никак не проходила у одного из космонавтов. Я ему сказал – надень маску, включи прибор и дай режим «подпорка». Не обращай внимания на то, что тебя немножко будет раздувать. И вы знаете, у него от этого повышенного давления, которое через маску передавалось, произошел отток крови от головы и наладилось венозное кровообращение. Он меня спрашивает: слушай, сколько раз я могу это делать? Я говорю – хоть каждые пять минут. И всё, пошло, сработало.
– А в земных условиях с головной болью так можно бороться?
– Честно говоря, не пробовал. Понимаете, там это происходит от перераспределения жидких сред организма, в том числе крови. Там причина другая, чем на Земле. Но вполне может быть, что и сработает при венозном полнокровии, например.
– Леван Лонгинозович, Научно-практический Центр экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы, в котором мы сейчас находимся, ведь тоже вы организовывали.
– Да, совместно с Людмилой Григорьевной Костомаровой. В какой-то момент в Институте Склифосовского произошла смена руководства. А я уже заведовал отделом в ИМБП. И тут мне звонит приятель, с которым мы много лет вместе работали в Склифе, –В.Г.Теряев. Он возглавил институт. И предлагает мне вернуться в Склиф в качестве заместителя директора по науке с уклоном на скорую медицинскую помощь. Создание системы медицины катастроф уже витало не только в воздухе, но и в умах специалистов. Еще в СССР было выпущено постановление ЦК и Совмина о создании нового направления – медицины катастроф.
Вместе с Л.Г.Костомаровой мы загорелись новой идеей, создать в Москве первый Территориальный центр медицины катастроф. Написали концепцию. Составили штатное расписание. Определили основные цели и задачи. Первый раз, когда мы с этой идеей пришли в Комитет здравоохранения, они говорят – вы вообще с ума сошли? Вы где живете? У нас рушатся институты, а вы хотите что-то создать? Это ведь были лихие 90-е.
– Да, это было смело.
– Более чем. Тогда Институт медико-биологических проблем чуть не исчез. Из 4500 умных людей там осталось полторы тысячи. Вообще науку чуть не разгромили в те годы. Мало что осталось. Но мы всё равно решили пробовать. Нас поддержали некоторые депутаты, председатель Моссовета Сергей Станкевич. В это время Ю.М.Лужкова избрали мэром. Мы через знакомых пробились к нему. Принесли ему концепцию. Он посмотрел, позвонил Ануфриеву – руководителю тогдашнего Комитета здравоохранения, сказал – ребят надо поддержать. Мы говорим – нам нужна научная группа. Он отвечает: науку я не могу вам дать, идите к Андрею Ивановичу Воробьеву, который тогда был министром здравоохранения.
– Как они помогали?
– Отнести, принести, помочь переложить… Всё. Никто не жаловался. В то же время знаю другую больницу, где было всего семь пострадавших с родственниками, и у них происходили скандалы за скандалами, потому что их пытались выгнать. Но Армению, как и Кавказ в целом, надо немножко знать. Там когда больной человек лежит, все родственники, близкие от него не отходят. Иначе просто быть не может.
– Какой вы дипломат!
– Так вот, Андрея Ивановича Воробьева, в то время возглавлявшего институт гематологии попросил: Андрей Иванович, нужно что-то с этими больными делать. У них был тяжелый Краш-синдром, возникающий из-за длительного сдавления. Их ведь извлекали из-под обломков. Очень тяжелая штука. Она кончается почечной недостаточностью, удалением конечностей. Нужны были детоксикационные аппараты и жидкости к ним для проведения гемодиализов. Ультрафильтрация.
– То есть, медицина катастроф была вам уже хорошо знакома.
– Конечно. Более того, армяне оказались, как всегда, людьми благодарными, они нас потом в Америку возили, на конгресс: у них ведь нечто подобное было в Сан-Франциско. Пошёл сель, были завалы, множество пострадавших.
– Значит, спустя годы ваш давний знакомый академик Воробьёв понадобился вам, чтобы дать разрешение на открытие центра катастроф.
– Да, а в приемной как раз дежурила Наталья – тот секретарь, с которой я еще раньше подружился, когда был Бурназян. Я ей звоню, говорю – Наташ, мне надо к Андрею Ивановичу. Приезжай, говорит, к 7 утра. Я с бумагами приехал в 7 утра, она меня через задний двор провела: вот стой, говорит, здесь, скоро он приедет.
– И так появился этот центр?
– Так появился этот центр. На втором этаже этого здания выделили две комнатки, здесь все было забито другими людьми.
– Вы были заместителем директора?
– Мне предлагали должность директора, но я сказал, что люблю заниматься наукой. Хорошо знаю: когда остаешься за первое лицо, тебя замучают хозяйством. Все эти неработающие краны, кто-то прогулял, кто-то недогулял, кому-то надо в эту смену, кому-то в ту, на совещание надо в департамент, туда-сюда. А наука требует полной самоотдачи. Я предложил на должность директора Людмилу Григорьевну Костомарову, и она внесла огромный вклад в развитие и становлении не только нашего центра, но и территориальных центров вообще.
– Какие главные задачи решал этот центр?
– Организация оказания помощи при ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций, организация медицинского сопровождения «событий риска». Организация – это главное слово. Вот что тут важно понимать. В ликвидации медицинских последствий чрезвычайных ситуаций на догоспитальном этапе последовательно участвуют три формирования: спасатели МЧС; специалисты НПЦ ЭМП; выездные бригады СМП. Спасатели работают в очаге. Медицина в очаге не работает, медицина работает на границе очага в зоне ЧС. Специалисты НПЦ ЭМП организуют сортировочные площадки и принимают от спасателей пострадавших, регистрируют, определяют ведущее поражение, количество пострадавших и потребность в выездных бригадах, распределяют пострадавших по бригадам и ведут постоянный репортаж с места для принятия управленческих решений. Чем более тесные у нас связи со спасателями, тем лучше. Я это учитывал в свое время, когда вышел с предложением создать в структуре Центра учебный отдел, где, помимо врачей и фельдшеров, мы обучаем первой помощи специалистов немедицинских формирований, участвующих в ликвидации последствий ЧС.
Далее. С ГИБДД надо четко взаимодействовать, с полицией. Мы должны организовать регистрацию пострадавших. А большинство пострадавших – «неизвестные». Черепная травма, тяжелый шок, они в это время ничего не сообщат. Это отдельная большая работа со своими особенностями. Спасатели свое дело закончили, разъехались. Скорая помощь свое дело закончила – им дали пострадавших, они их развезли – разъехались, а Центр продолжает свою работу.
Далее – стационарный этап. Движение пострадавших как внутри, так и межбольничные. Если нужны консультанты – это тоже возможно через центр. Уточнение (идентификация) пострадавших может длиться до нескольких недель. Это важная и ответственная часть работы, имеющая медицинское, социальное и политическое значение. Помните, например, в РУДН был пожар? Там фамилии, имена, отчества труднопроизносимые. Иностранцы. Было очень непросто всё это установить. Идентификация заняла более двух месяцев. Но это важная работа.
Вообще существует очень много так называемых событий риска. Все, что связано с большим скоплением людей – праздники, митинги, футбольные матчи. Например, Спартак-ЦСКА, где фанатам зачастую хочется подраться.
– Там надо дежурить?
– А как же. И не только дежурить – еще организовать всё надо. Все места больших скоплений, общественные мероприятия – всё это требует нашего присутствия, хотя специфика везде разная. Если, скажем, новогодний бал в Гостином дворе – там драк не случается, но у людей бывают обмороки. Мы знаем, какое примерно количество народу будет, знаем, что будет. Значит надо зарезервировать больницы, койки. Вызвать определенное количество машин. Свою бригаду там ставим. На Поклонной горе – своя специфика. Около 200 человек принимаем. И человек 60 по больницам развозим, когда возникают острые или обостряются хронические заболевания.
– А Парад в День Победы?
– Это тоже «наше» событие. Ветеранами, пожилыми людьми зачастую наша помощь оказывается остро востребована. Хотя, конечно, ничто не сравнится с нынешним Чемпионатом мира. Там вообще четыре уровня оказания медицинской помощи. Мы к нему больше года готовились. Наверное, больше, чем футболисты.
– Чем вы занимаетесь сейчас в качестве главного научного сотрудника?
– В основном делюсь жизненным опытом с молодежью. Провожу занятия, пишу инструкции, книги, читаю лекции. У нас есть главный наш журнал «Медицина катастроф» (главный редактор академик С.Ф.Гончаров) , с момента основания вхожу в состав Редакционной коллегии. Надеюсь быть полезным еще какое-то время, желательно подольше.
– А в ресторан «Арагви» ходите?
– Никогда там завсегдатаем не был. Папа не очень это дело поощрял, считал неприличным по ресторанам шляться. Год назад «Арагви» открылся после реконструкции, меня пригласили. Вкусно, конечно, но такого сациви, как мама готовила, там всё равно нет.
– Кто же вас сейчас кормит настоящей грузинской едой?
– Крайне редко «правильное» сациви делает мой сын Вася. А вообще я уже всеядный. Мне все равно. Что перекусишь – то и слава Богу.
Фото автора и из архива Л.Л. Стажадзе.