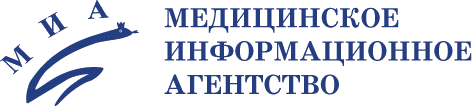Почему онкология в России остро нуждается в эффективном менеджере и что делается, чтобы помочь россиянам уберечься от рака?
12.12.2016 по материалам «Новая газета»
Интервью замдиректора Московского клинического научного центра по онкологии, профессора Михаила Бяхова
— Если потратить несколько часов и посмотреть, о чем пишут люди на онкофорумах, то получится картина, про которую точно сказала писатель Людмила Улицкая: «У нас в стране есть хорошие врачи, но нет медицины». Как вы считаете, в условиях сложившегося дефицита всех возможных ресурсов в экономике врачу трудно быть эффективным?
— У врача на самом деле нет серьезных барьеров, чтобы быть эффективным. У него в большинстве случаев один барьер — отсутствие должных знаний.
— А отсутствие лекарств?
— Это отдельный разговор. Врач должен четко понимать, за что государство готово платить. Это государственная проблема. Ни в одной стране мира, за исключением, наверное, Кувейта, нет стопроцентной возможности обеспечить всех новейшими современными лекарствами. И чем дальше будет развиваться наука, тем больший список лекарственного «эксклюзива» мы будем иметь. Во всем мире государства определяют базовый список препаратов, которыми есть возможность обеспечить всех заболевших, достигая хороших результатов. А в России пока такой системы нет, а есть общая корзина на все лекарства. При таком подходе независимо от кризиса в стране лекарственный дефицит будет сохраняться всегда. Потому что у нас бывает так, что, купив лекарство за миллион, мы продлеваем жизнь на полтора месяца одному пациенту, хотя та же сумма могла бы помочь бороться с болезнью нескольким пациентам с куда большим эффектом.
Вообще, расчетом «цена — эффективность препарата», когда речь идет о массовом финансировании лекарственного обеспечения, у нас в стране не занимались никогда.
— Что вы, как врач-онколог, вкладываете в понятие «эффективность препарата»?
— Если упрощенно, то это срок, на который лекарство продлевает жизнь или излечивает. Нет плохих препаратов в онкологии, есть нерациональное их использование. По законодательству, сейчас все должны обеспечиваться самыми современными препаратами. При этом расчеты показывают, что к 2025 году стоимость всей противораковой терапии, если мы будем стремиться закупать только новейшие лекарства, может сравняться с ВВП страны. Это нереально. Поэтому, выбирая препарат, государство неизбежно будет соотносить его цену и его эффективность.
— Вы рисуете тупиковую ситуацию. А выход вообще есть?
— Выход всегда есть. Мы стоим на той позиции, что, включая какой-то препарат в программу массового использования, должны быть уверены, что это будут эффективно потраченные средства. Например, за препарат, который при лечении рака легкого увеличивает продолжительность жизни на годы, — государство должно платить. И отказывать в оплате, если речь идет о приобретении лекарства, продлевающего жизнь на несколько недель.
— То есть государство должно платить за гарантированное продление жизни, а не за шанс на нее?
— Конечно. Как и во всем мире. Каждая страна определяет тот список лекарств, который государство гарантирует. Причем в большинстве стран он существенно короче, чем наш. У нас в список ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. — Ред.) включено 109 наименований, а рекомендации Всемирной организации здравоохранения для развитых стран включают всего 28. Каждая страна определяет тот минимум, который может гарантировать.
— А если больной хочет лечиться только новейшим препаратом, он может сам купить лекарство и лечиться?
— Это его личное дело, но врачу в государственной клинике он такой вариант предложить не может. Это запрещено законом, и это абсолютно правильно. Мы не можем гарантировать, что человек, самостоятельно купив лекарство, правильно его хранил. У каждого препарата есть свои правила хранения, и нарушение их может привести к снижению терапевтического эффекта. Это слишком большие риски.
— При такой системе может создаться впечатление, что государство хочет сэкономить.
— Это впечатление ошибочно, но очень крепко вбито в голову. Пациенты сплошь и рядом приходят к доктору и говорят: «Я не хочу лечиться отечественными препаратами, они плохие, а хочу только импортными, потому что это эффективнее». Но во всем мире дело обстоит именно так: государство бесплатно может гарантировать только тот формат лечения, на который есть средства. Хочешь иного лечения — лечись на свои деньги, в частной, а не государственной клинике. Мне очень близок подход к проблеме в Индии, где провозгласили: «Мы не настолько богатая страна, чтобы лечить всех оригинальными препаратами. Поэтому мы лучше закупим дженерики, но обеспечим всех качественными препаратами, достигая при этом стабильных результатов».
— Вы отговариваете этих людей от похода к частному врачу?
— Нет. Я объясняю, что между дженериком и оригинальным препаратом принципиальной разницы нет, — одна молекула, одно действующее вещество. Отличаются ценой. Весь мир пользуется дженериками.
— Один известный в детской гематологии доктор тем не менее утверждает, что в дженериках зачастую содержится только 25% действующего вещества. Кроме того, они плохо переносятся.
— Я бы хотел увидеть доказательства. Я все время докторам говорю: нужен факт. Мы все чаще сталкиваемся с тем, что наши пациенты от дженериков отказываются, ссылаясь на аллергию. Бывает, что пациенты приходят и приносят фотографии жуткой сыпи, которая якобы случилась несколько дней назад. И тогда мы предлагаем им госпитализироваться, чтобы посмотреть, действительно ли наш препарат дает такой побочный эффект. В большинстве случаев не подтверждается. Люди идут и на подлог, чтобы получить бесплатно импортный препарат.
— Вам, как врачу, понятна причина, по которой больной стал таким недоверчивым?
— Первая причина — это то, что элита стала массово лечиться за рубежом. Люди сразу решили, что раз так, то наша медицина плохая сверху донизу. А второе: есть люди, которые свои субъективные ощущения выдают за истину. Эти якобы 25% действующего вещества в лекарстве кто-нибудь проверял? Сомневаюсь.
У нас есть форма для врачей. Ее можно заполнить и сообщить в Минздрав, что препарат не соответствует заявленному стандарту. Если подтвердится — у производителя будут проблемы. Это единственный путь борьбы за качество лекарственных средств. У нас были прецеденты, когда по отзывам изымали всю партию, отправляли на экспертизу.
— А на чем-то в онкологии сегодня сэкономить можно?
— Можно. На ранней диагностике. Одно дело — первая стадия заболевания, это одни затраты на лечение; четвертая — принципиально другие. Пока четко не будет разделена ответственность между гражданином и системой здравоохранения, — кто отвечает за здоровье, а кто отвечает за лечение, — мы с раком не справимся. В Европе, где занимались скринингом, 80% рака молочной железы диагностируется в первой стадии, у нас и близко нет таких показателей. У нас всего 4% женщин проходит маммографию, которая им положена по возрасту, а государство оплачивает эти исследования.
Разрабатывается целая система, чтобы заставить женщин приходить обследоваться. Подготовили для участковых врачей некий алгоритм. Женщина приходит к участковому терапевту, например, с бронхитом или гипертонией, и когда врач вводит данные в компьютер, то высвечивается, что она никогда маммографию не проходила. И ей тут же выдается направление. А чтобы она гарантированно прошла, нужны репрессивные методы.
— Разве только репрессивные методы срабатывают?
— Представьте, да. Так устроено во всех богатых европейских странах. Там, если ты заболел раком, но до этого никогда не был на диспансеризации у онколога, — это твои проблемы. Государство не будет обеспечивать тебя лечением. Другого пути нет, чтобы заставить ходить к врачу.
— А у нас большинство раков — как гром среди ясного неба?
— Да. Они либо случайно выявляются, либо когда уже есть жалобы. А жалобы — это всегда запущенный случай. Хотя, например, колоректальный рак в большинстве случаев можно профилактировать простым удалением полипов. Для этого хотя бы раз в 3 года нужно делать колоноскопию людям старше 50 лет. Или рак желудка. Почему в Японии рак желудка выявляют в 70% случаев на первой стадии? Потому, что государство обязало все население делать регулярно гастроскопию.
— Диспансеризация — это большие деньги?
— Это огромные деньги. И они выделяются Министерством здравоохранения. Но посещаемость — хуже некуда. Поэтому, видимо, для того, чтобы люди пошли, надо их в чем-то ограничить. Если вы не прошли диспансеризацию, когда вам положено, то, может быть, резонно лишать вас полиса ОМС? Нашего человека нужно приучить к мысли, что он сам должен нести ответственность за свое здоровье. Салтыков-Щедрин еще говорил: «На Руси знание нужно внедрять насильственным способом, но желательно без крови».
Почему на Западе пациенты так дисциплинированны? Потому, что четко понимают: если куришь, то полис в разы дороже. Заработал лишний вес из-за обжорства и отсутствия физической нагрузки — плати за каждый лишний килограмм. Здоровый образ жизни — это еще и финансово прагматичный подход. Западный человек понимает, что если он заболеет, то возникает большая вероятность банкротства. И, с другой стороны, если человек в цветущем возрасте не работает, значит, у него есть деньги, чтобы жить и лечиться на свои средства.
— Вы хотите ввести норму, которая для нашего человека звучит дико. Как это? За свое несчастье я еще должен нести ответственность? За свои страдания расплачиваться?
— Чтобы не было страданий от болезней, нужно о себе заботиться — двигаться, не курить, не пьянствовать, адекватно питаться. А если заболеваешь раком легких, связанным с курением, ты должен нести ответственность. Не государство тебя заставило курить по 2 пачки в день на протяжении многих лет. Это твое личное дело.
— Вы вводите прагматический гуманизм.
— А без прагматизма гуманизм невозможен. Тому, кто старался быть здоровым, но заболел, — безусловно, нужно оказывать помощь без ограничений. Предупредить рак практически невозможно, за исключением некоторых локализаций. Но мы можем выявить его на ранней стадии. Есть у нас пациенты, которые приходят на ранней стадии, но заболевание прогрессирует. И, конечно, такому человеку помогать гораздо проще, чем тому, кто сознательно выращивал опухоль. Примеры: приходит женщина с огромной распадающейся опухолью молочной железы, метастазы во всех органах, или больной раком языка, опухоль не помещается во рту. Они пришли к врачу, когда жить стало невмоготу. И, получается, мы должны миллионы потратить на лечение людей, которые изначально не хотели лечиться и довели себя сознательно до фатального состояния.

— Получается, что, отстраивая новую систему, вы хотите отфильтровать людей, которые ответственно относятся к себе, — от тех, кто себя запустил, и таким образом отстроить алгоритм приоритетов в их обеспечении.
— Мне кажется, что необходимо акцентировать усилия на тех, кто социально ответственнее, государство должно именно им максимально помогать, потому что это позволит дольше им прожить в активном состоянии, и они вернут потраченные на них государственные деньги.
А сейчас деньги уходят как вода в песок. Это видно. Есть новые технологии, препараты, но, сколько бы государство денег ни давало, обеспечить всех по максимуму невозможно. Нужен здравый рационализм.
— Это касается и детской онкологии?
— Нет. В детской онкологии не может быть никаких ограничений. Это касается только взрослых людей, которые уже прожили достаточный отрезок жизни.
Мы не можем молодого 25-летнего человека, который внезапно заболел, ограничивать в лечении. Он еще не успел как-то сам серьезно испортить свое здоровье. А 50-летний уже может нести персональную ответственность за свой организм. Продление жизни курильщика со стажем, заболевшего раком легкого, стоит огромных денег. А ведь он был предупрежден, что здорово рискует.
— Вы около 30 лет работаете в онкологии. Правда, что теперь стали дольше жить с раком?
— Правда. У нас даже появился такой термин — «долгожители». Новые методы лечения принципиально меняют продолжительность жизни больных, а это дает накопление контингента с онкологией. Поэтому нам постоянно нужно искать средства. Например, у нас каждый год с определенной локализацией заболевает 100 человек. Если они раньше жили с этим раком 6 месяцев, то теперь живут 2 года и более. Статистика заболеваемости растет за счет улучшения диагностики и за счет увеличения населения. Из регионов, откуда народ уезжает, заболеваемость раком снижается просто потому, что там некому болеть, и увеличивается там, куда приезжают люди. Москва — уникальный город с самой большой продолжительностью жизни в России. Около 40% больных раком в Москве старше 70 лет.
У современного человека есть всего две причины смерти в преклонном возрасте — это сердечно-сосудистые заболевания и онкология. В тех странах, где очень хорошо борются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, там на первом месте по смертности стоит онкология, и наоборот. Как ни парадоксально для обывателя прозвучит, если первые строчки занимает, выходит, смертность от онкологии, это говорит о высоком уровне медицины в стране, потому что там уже не умирают от инфекций, туберкулеза, инфарктов.
— Вы сейчас начали считать деньги в онкологии. Вы действительно уверены, что в медицине можно экономить? Когда в отрасль по нацпроекту «Здоровье» пришли огромные средства и регионы обеспечили современным диагностическим оборудованием, разве это нанесло ущерб?
— Это не принесло большой отдачи. Ошибка в том, что, когда занимались распределением средств, спрашивали мнение врачей. Но далеко не каждый умеет считать рациональную потребность. Когда мне задали вопрос: «Сколько нужно купить передвижных томографов в регион N?», я ответил: «Два». А заявка поступила на 17. Каждый район захотел свой передвижной маммограф. Но с экономической точки зрения их нужно всего два: один в постоянном режиме будет ездить, а второй — стоять в резерве. Оборудование должно работать 24 часа в сутки. Чем больше на нем будет проведено исследований, тем быстрее оно окупится.
— Но тогда вы высвобождаете специалистов. А за последние годы в Москве сократили огромное количество врачей. Куда пойдут уволенные?
— Если на производстве внедряют новые технологии, то освобождается низкоквалифицированный труд, так же и в медицине. Реформа здравоохранения в Москве абсолютно правильна.
Нужно избавляться от неквалифицированного труда. Это вредоносный балласт.
— С каким больным вам сложнее всего работать?
— С хамом — с его манерой наезда на врача, попыткой диктовать свои условия, навязывать свое мнение. Априори считать врача виновным во всех своих бедах. Но иногда такая реакция возникает у человека из-за стресса. И я постоянно пытаюсь донести, что медицина — это сфера обслуживания в лучшем смысле этого слова. Обслуживание, оно во всем: во встрече больного, в манере разговора, в улыбке, в понимании и сочувствии.
Если человеку сложно завязать шнурки на ботинке, ничего страшного, если врач поможет ему их завязать. Да, это сервис. И больному он необходим.
В прошлом году все онкологи Московской области прошли курсы по онкопсихологии. Курсы потрясающие. Два дня теории и два дня работы с актерами, которые симулировали поведение разных типажей, которые приходят на прием. А дальше эксперты разбирали: правильно ли врач себя вел в ситуации, что сделал не так?
Как следствие — резкое сокращение жалоб на некорректное общение врачей.
— А зачем вам эти курсы? Главное же, чтобы врач хорошо лечил. Собственно говоря, его манеры на исход лечения не влияют.
— Еще как влияют. Когда человек перестает нервничать, он эффективнее лечится. Вообще,
чем меньше человек нервничает, тем дольше он живет. Особенно в онкологии.
Пациент в нервном состоянии не может принимать верные решения — начинает суетиться, бегать по врачам, упускает время для лечения. И когда он нервничает, он все время недоволен. А любая депрессия еще больше снижает иммунитет. Организм вообще теряет контроль над патологическими клетками. Ощущение, что все плохо, все врачи сволочи, — здорово влияет на исход. Тот, кто без паники воспринимает свой диагноз и сотрудничает с врачом, — лечится успешнее в разы.
Наталья Чернова
Источник фото: «Новая газета»