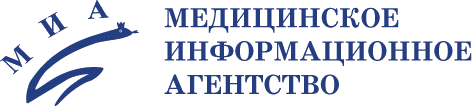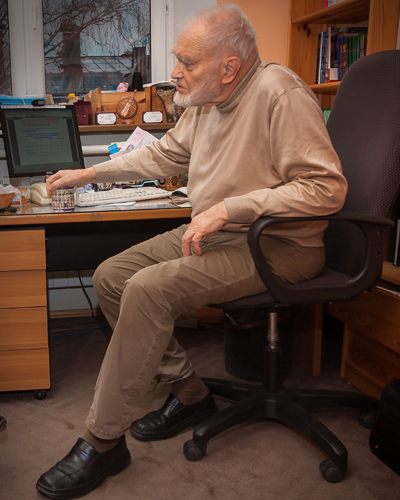Год Экологии начался как нельзя более грустно. 10 января 2017-го умер главный российский эколог — самый преданный и авторитетный в деле защиты природы человек член-корреспондент РАН Алексей Владимирович Яблоков (1933-2017). Он был удивительным — порывистым, эмоциональным, бескомпромиссным, говорящим горячо и увлекательно о своих любимых морских млекопитающих, которых считал отдельной цивилизацией, нисколько не менее сложно организованной, чем наша. А сколько еще таких цивилизаций! А пчелы, а муравьи! Его хотелось слушать часами, открыв рот. Ученик Тимофеева-Ресовского, он был выдающимся биологом, но в первую очередь — экологом. На защиту природу он бросался, как на амбразуру, нисколько не думая о себе. И порой это было небезопасно. Но он считал, что есть вещи поважнее, чем личная безопасность. И это — безопасность жизни на Земле… Два года назад я взяла у него большое интервью, которое по независящим от меня причинам так и не удалось опубликовать. Однако оно нисколько не утратило своей актуальности. Может быть, даже наоборот… Предлагаем его вниманию наших читателей.
— Алексей Владимирович, папа ваш - геолог, доктор геолого-минералогических наук, мама - палеонтолог, доктор биологических наук. Значит, вы в большей степени пошли по маминым стопам, нежели по папиным. Почему?
— Может быть, потому что дед был земским врачом. Но скорее потому, что меня всегда тянуло к живой природе. Из детских воспоминаний — конечно, военные годы. Это бомбежки Москвы. Мы жили около Арбата, в Малом Лёвшинском переулке. Все здоровые взрослые должны были по очереди дежурить на крыше, чтобы хватать щипцами зажигательную бомбу и затем бросать ее в ящик с песком. В соседнем подвале — бомбоубежище, куда все должны были прятаться во время налетов. Продовольственные карточки. Потом — эвакуация в Пермь (тогда — Молотов). Отец работал в Наркомате угольной промышленности, мама — в Палеонтологическом институте Академии наук, занималась изучением ископаемых раковин. Это «руководящие ископаемые», по ним определяют возраст геологических пород, что важно для поиска полезных ископаемых — нефти, урана и других. Мама была очень активной, еще до войны прошла курсы медсестер, стала старшей медсестрой военного эвакогоспиталя. Отец остался в Москве в своем наркомате, а мы — мама, дедушка с бабушкой по отцовской линии и я со старшим братом — жили в одной комнате большого общежития. От школы в Перми остались воспоминания о самодельных тетрадках — сшитых ниткой четвертушках бумаги от каких то довоенных блокнотов.
— Как учились?
— Не помню. Помню только, что в школе мы постоянно занимались сбором макулатуры и металлолома. Жили бедно. Почему-то запомнил, что мама обменяла (тогда в ходу был товарообмен на рынках) свою новенькую беличью муфту, кажется, на литр молока. Молоко в Перми тогда продавалось дисками, замороженное в мисках. А уже в 1943 году отец «вызвал» маму и меня в Москву, — тогда в Москву можно было приехать только «по вызову».
— Почему без брата?
— Мой брат Клим (в честь Клима Ворошилова), старше меня на семь лет, как и многие, рвался на фронт. Он поступил в военное училище в Таре, откуда его отчислили по зрению. Тогда он пошел в военкомат и получил направление в училище связи. Оттуда писал письма Сталину, чтобы поскорее попасть на фронт.
— Неужели он верил, что Сталин прочтет его письмо?
— Конечно, нет! Понимаешь, жизнь была другая. Письмо Сталину — это как помолиться. Наводчиком на самоходке прошел войну, стал кавалером Ордена славы. В Пруссии его самоходка вырвалась вперед и оказалась внутри немецких частей. Они как-то затаились на ночь, а утром он обнаружил, что стал седым. После войны окончил университет, стал геологом-уранщиком. Он кандидат наук, вся грудь в орденах, и не только в военных. И сейчас работает на полставки в каком-то аналитическом центре. Смотрю на него с завистью — у меня коленки скрипят, а он бегает как олень.
— Он герой, а вы — маменькин сынок?
— Мамин, но не маменькин. Домашнее хозяйство, конечно, вела мама. Отца видел редко. Сталин проводил совещания по ночам, и все наркоматы тоже работали до глубокой ночи. Я — на попечении соседей по коммуналке и домработницы.
Вообще с родителями мне повезло. Деятельные, умные, образованные, добрые, они старались помочь мне «откопать свой талант». Каждый человек генетически уникален. Это значит, что каждый может что-то делать лучше, чем все остальные. Найти и реализовать этот талант — счастье! Мама меня направляла в самые разные кружки. В Московском городском Доме пионеров я с увлечением занимался в столярном кружке. Тогда я впервые попал на экран телевизора: сделанный мной стул, который раскрывался и становился стремянкой, занял на городском конкурсе школьных поделок призовое место. Телевизионщики снимали у нас дома, как я раскрывал стул, а папа лез по этой стремянке к книжным полкам.
— А сейчас можете сделать стул?
— Могу, конечно! До сих пор радуюсь, когда удается рубанком, стамеской, фрезой открыть какой-нибудь красивый узор, люблю запах стружки. В моем деревенском доме в деревне Петрушово недалеко от Касимова Рязанской области есть мастерская с приличным набором столярных инструментов — разве только токарного станка нет. Недавно сделал резные наличники для дверной арки в часовне. Наводил блеск перед приездом Владыки на 10-летие часовни. Наша приходская церковь в семи километрах, далеко. Недавно спрашивал жену: «Дильбар, а почему мы решили строить часовню?» Она: «А мне баба Катя велела». Покойная баба Катя — наша деревенская соседка, моральный авторитет, «совесть» деревни. Может, мы бы так и не собрались строить, да подвезло — удалось получить от Адамова, бывшего атомного министра, 50 тысяч рублей компенсации морального ущерба за его некорректные реплики в мой адрес в программе «Глас народа» Светланы Сорокиной. И мы с Дильбар стали инициаторами, организаторами и, наверное, главными спонсорами этого строительства. Помню, развесили объявления по деревне — приходите копать траншею для фундамента. Я пришел, а никого нет. Только часа через три люди потянулись.
— Жену вашу зовут Дильбар. Она что же, из касимовских татар?
— Нет, тут история совсем другая. Это и горе, и радость. Дильбар Николаевна — моя вторая жена. Моя первая жена — Эля Бакулина, с которой я познакомился в университете, и мы прожили вместе больше сорока лет. Она умерла от рака в 1987 году. Вообще, надо сказать, рак — это моя семейная проблема. Отец и мать умерли от рака, и я сам раковый.
— Глядя на вас, не скажешь!
— Преодолел, тьфу-тьфу!
— На ранней стадии?
— Если бы. Пять лет назад обнаружили запущенный неоперабельный рак простаты, с возможными метастазами в кости. Спасла, прежде всего, Дильбар, которая раньше меня прошла через раковые тернии, и которая за руку водила меня по врачам. Ну и, конечно, наши эскулапы. Главный — Евгений Хмелевский из Научного центра рентгенорадиологии. Сильнейшее локальное облучение остановило болезнь. Правда, потом три года мучился последствиями облучения. В меня влили в общей сложности литров семь крови. Тут бью поклоны и Гематологическому центру в Москве, и Радиологическому центру в Обнинске. Некстати подвело сердце — и если бы не Елена Васильева из 32-й горбольницы, вам бы не пришлось меня расспрашивать о житье-бытье. Кстати, самое страшные картины этого периода — мамы ведут за руку или везут на каталках малышей с яркими малиновыми крестами на местах, куда фокусируется облучение.
Так вот, моя вторая жена Дильбар Николаевна Кладо — по семейной легенде потомок одного из двух плотников, которых Петр Первый привез из Амстердама. Мы с ней даже ездили в Грецию искать остров, откуда ее корни. С ней я познакомился в 1988 году, поженились через год. Она замечательная. Мне вообще на женщин очень везет. Она была журналисткой и ведущей телепрограммы «Сельский час». Меня интересовали последствия применения пестицидов. Она пришла, чтобы взять интервью.
Дильбар — дочка Николая Николаевича Кладо, опального знаменитого кинокритика. Опальность в их семье передается из поколения в поколение. Её дед Николай Кладо был адмиралом, наставником цесаревича, позже ставшего императором Николаем Вторым, но потом был разжалован им же за прогноз проигрыша в морской войне с Японией. Сейчас он считается одним из выдающихся теоретиков, стратегов военно-морского дела. Среди трудов Николая Кладо есть книга «О мужестве». Там он приходит к выводу, что высшая форма мужества — это гражданское мужество. Когда я это прочел, был поражен.
— Почему?
— Когда познакомился с Дильбар, я был народным депутатом СССР, заместителем председателя Комитета по экологии Верховного Совета. И шла постоянная драка с адептами тоталитарного режима. Для этой драки нужно было мужество. Сахарову нужно было великое мужество, чтобы с трибуны Съезда, несмотря на свист и топот, говорить о том, что нельзя воевать в Чечне. Недавно видел фотографию с одного из заседаний Съезда, где я сижу, а кругом все стоят во время исполнения советского гимна. Дед Дильбар через столетие протянул мне руку. Ну, а мы шаг за шагом по уши влюбились. Бывает такое счастье для человека, даже взрослого.
— А как ваши дети к этому отнеслись?
— Это отдельная история. Она была давно разведенная, с сыном, и я пришел к 18-летнему Сереге просить руки его матери. Он согласился, но предупредил, что мне с ней будет очень сложно, потому что каждое воскресенье она требует кофе в постель. И вот уже 23 года каждое воскресенье у Дильбар завтрак в постели.
— Но это же замечательно!
— Совершенно согласен.
— Ну а ваши дети?
— Мой единственный сын был уже самостоятельный. Гораздо важнее было, чтобы Дильбар приняли 13-летний внук и 10-летняя внучка. Они обстоятельно пообщались с ней, и разрешение жениться было получено. Сейчас у меня уже есть правнуки.
— Вернемся в юность. Я знаю, что вы были председателем кружка юных биологов Московского зоопарка.
— В пятом или шестом классе я как-то попал в зоопарк и обнаружил там КЮБЗ — Кружок юных биологов Московского зоопарка. И я с увлечением стал заниматься наблюдением за животными. Сначала наблюдал за лисами. Потом меня «повысили», и я наблюдал за новорожденным слоненком. В КЮБЗе я впервые оказался среди единомышленников, ребят, объединенных интересом к живой природе. Руководителем КЮБЗа был Петр Петрович Смолин («ППС») — мой первый из двух Учителей с большой буквы, один из основателей юннатского движения. Станции юных натуралистов, школьные лесничества, «голубые патрули», — все эти объединения были, говоря по-современному, немного диссидентскими. Пионерия и комсомол были организованы по территориальному принципу (районы, школы), а в КЮБЗе например, были много десятков ребят из Москвы и Подмосковья, и у нас там не было ни пионерской, ни комсомольской организации. Я пропадал в зоопарке каждый день. Единственным условием, которое поставили родители, — чтобы в школе все было в порядке. Нет «двоек» — делай, что хочешь. КЮБЗ меня увлек невероятно, я понял, что это моё. Каждую субботу и воскресенье — «выезды»: с ППС или старшими кружковцами выезжали за город для наблюдений в природе, в основном за птицами. Каждые каникулы — многодневные поездки в разные заповедники, на биостанции, даже в научные экспедиции — бесплатными помощниками. При этом нам всё время давали понять: сидите вы в зоопарке, не надо вам никуда ездить. Мало ли о чем они там будут на природе, у костра, разговаривать? Разумеется, мы продолжили ездить.
В 1948 году я был избран председателем КБЮЗа. А в 1949 году ППС «выжили» из Зоопарка, и мы, почти все старшие КЮБЗовцы, образовали Юношескую секцию Всероссийского общества охраны природы — другой известный теперь юннатский кружок. ППС и КЮБЗ сформировали меня как биолога и гражданина. Я бы так обозначил полученные в КЮБЗе жизненные уроки: общественная активность, дружелюбие, принципиальность, нетерпимость к предательству, особое отношение к природе.
— Много ли вам дала школа?
— В школе я запомнил только трех учителей. Как и большинство, помню добрую и заботливую учительницу младших классов Тамару Ивановну. Мне повезло с учительницей биологии Полиной Дмитриевной. Она быстро поняла, что я «ударенный» биолог, и меня поддерживала. Но у меня был страшный враг — учитель географии Иван Львович. Он был каким-то заскорузлым, педантичным, не терпящим свободомыслия. Мне теперь кажется, что ему нравилось задирать меня. В ходе какой-то дискуссии он довел меня до того, что я выкрикнул: «Вы сволочь!» А он мне: «Ты — козлище!» — с ударение на первый слог.
— Вот и поговорили…
— И получил «двойку» за поведение в году и единственную тройку в аттестате — по географии. Чуть не выгнали из школы, но заступились другие учителя, — по всем другим предметам я учился хорошо. Был еще эпизод, когда я в школьной стенной газете написал заметку о скрещивании человека с обезьяной. Мы обсуждали в КЮБЗе эти опыты, и я о них написал. Почему-то это было воспринято в штыки, и мне, кажется, даже объявили выговор по комсомольской линии. Серебряная медаль, на которую я был нацелен, пролетела мимо.
— Значит, в университет пришлось сдавать экзамены?
— Да, сдал и поступил. Все мысли — попасть на кафедру зоологии позвоночных. Но после первой университетской сессии — страшный удар. Приказ, подписанный ректором: Яблоков, в числе двадцати или тридцати студентов первого курса с биолого-почвенного, геологического и географического факультетов, переводятся на химический факультет!
— Как это? Почему?
— На химфаке таким образом формировалось какое то секретное отделение (много лет спустя я узнал, что это было что-то радиохимическое), куда набирали мужчин с трех естественных факультетов, которые без троек сдали первую сессию. Для меня это была трагедия. Нас было трое с биофака, не согласных стать химиками. Написали заявление ректору, что хотим посвятить себя биологии. Реакция — ноль. Кто-то посоветовал обратиться к Т.Д. Лысенко — депутату Верховного Совета СССР от моего района. Удивительно, но он принял меня.
— И как же вы с ним общались?
— Это было в здании Президиума ВАСХНИЛ. Огромный темный кабинет, он, как Гудвин, за столом в глубине. Говорю, волнуясь, что биология — призвание, помогите, мол, попасть обратно на биофак. Он прохрипел: «Вы не понимаете государственной необходимости». На этом аудиенция была окончена. Сейчас рассказал — и вспомнил, что эту же фразу много лет спустя услышал от Анатолия Собчака. Я был председателем государственной экологической экспертизы по строительству высокоскоростной железной дороги «Москва — Санкт-Петербург», и Собчаку — тогда мэру Санкт-Петербурга, — стало известно, что большинство экспертов склоняется к отрицательному заключению по проекту. Мы оказались правы: сейчас из Питера в Москву можно доехать меньше чем за четыре часа — как раз столько и предполагалось проектом ВСМ, но цена — миллиарды рублей, вырубка тысяч гектаров лесов, нарушения охраняемых территорий. Проект ВСМ был варварский, который обогатил бы немногих, а беды принес бы сотням тысяч. Но как же он тогда на меня орал!
— А что же с университетом?
— Начал ходить на занятия на химфак. Не ходить было нельзя — выгнали бы с «волчьим» билетом. Но кроме химфака, я продолжал ходить на лекции на биофаке. И сдавал экзамены и там, и там.
— На тройки, чтобы вернуться обратно?
— Хорошая идея, но мне она тогда не пришла в голову. Из переведенных я и Сергей Розанов были самыми «упертыми». Мы сдавали экзамены на обоих факультетах. Преподаватели относились к нам с сочувствием. Помню, я в один день сдал пять экзаменов! Через полгода на химфаке поняли, что от нас толку не будет, и троих перевели обратно. Олег Орлов потерял год, а меня и Розанова перевели на следующий курс без потери года.
Второе серьезное испытание ждало меня на пятом курсе. Были годы лысенковщины. Со времен КЮБЗа и ВООП, благодаря ППС, маме, которая не считала Лысенко серьезным ученым, и университетским преподавателям старой закалки, я понимал, что лысенковщина — это мракобесие. Думаю, что так считало и большинство моих товарищей. И на пятом курсе я написал в заметке в факультетской стенгазете, что мы «голосуем ногами» против лекций проф. Дворянкина. Дворянкин был ярым сподвижником Лысенко и читал биологически неграмотные лекции. Хотя знаменитое «письмо трехсот» против лысенковщины (его подписала, кстати, и мама) уже было в ЦК КПСС, разразился скандал, меня хотели исключать из комсомола. Кончилось тем, что меня распределили учителем биологии в Архангельскую область.
Спас меня Сергей Евгеньевич Клейненберг. К окончанию университета я побывал в экспедициях по изучению китообразных на Дальнем Востоке и Белом море, выполнил под его руководством дипломную работу по биологии северного дельфина — белухи. Он был ученым секретарем Института морфологии животных им. А.Н. Северцова, который располагается в здании, где мы с вами разговариваем.
Он тоже из когорты моих учителей. Мама выступила в роли судьбы, когда свела меня с Клейненбергом. Она работала в Институте палеонтологии, который располагается в этом же здании, в другом корпусе. От Сергея Евгеньевича она узнала, что ему нужны студенты в экспедицию. Человеческие отношения были очень важны не только в сталинское, но и в послесталинское время. В каждом научном институте был «куратор» — штатный сотрудник КГБ. Сколько блестящих научных карьер было загублено доносами! Думаю, Сергей Евгеньевич взял меня к себе в помощники потому, что доверял маме: она не была «замазана» ни предательством, ни доносами.
«Заявка» на меня была направлена в МГУ, но, как я уже сказал, вместе с дипломом я должен был получить предписание ехать в Архангельскую область. И Клейненберг (потом я понял — с риском) сделал удивительный ход: он взял меня на работу не как окончившего университет специалиста, а как младшего лаборанта без высшего образования. Я был зачислен в штат института и перестал ходить в университет. Года через три мне передали из университета: у нас тут завалялся ваш диплом, заберите. Это было кстати, так как к тому времени под крылом Клейненберга я уже подготовил кандидатскую диссертацию. Это был замечательный человек, каким-то чудом сохранившийся в сталинское время.
История таких чудес в каждом случае уникальна. Только в хрущевскую «оттепель» мама рассказала мне, как она чуть не пропала в сталинской мясорубке.
После университета в 1925 году она стала работать младшим геологом на угольной шахте под Тулой. Сажают начальника шахты, заместитель начальника становится начальником, старший геолог становится заместителем, она — старшим геологом. Через год сажают нового начальника, и она становится заместителем начальника шахты. И вот уже ясно, что скоро ей придется стать начальником шахты. Дальнейшее предрешено… И тогда она вербуется в геологическую экспедицию по гелию в Семиречье. Гелий тогда искали по всей стране как стратегический элемент для дирижаблей, как после войны тысячи геологов искали уран для атомной бомбы. Сохранилась фотография, где мама на лошади, в гимнастерке, с револьвером на боку, чтобы обороняться от басмачей. Но главное, она выскочила из круговерти посадок. Это было куда страшнее…
— Свою первую научную книгу вы издали в 1958 году, когда вам было 20 с небольшим…
— Да, я еще лаборантом опубликовал первую свою маленькую книжку «Охрана природы и ее значение для нашей страны». Работа была сделана в соавторстве с Георгием Густавовичем Боссе, бывшим членом Войскового правительства генерала Каледина. И это еще одна чудесная история. Каким образом Боссе сохранился в сталинскую эпоху? Как моя мама добывала гелий, так и Георгий Густавович занимался природными каучуконосами. Каучук был стратегическим сырьем. Боссе организовал первую советскую экспедицию в Южную Америку, возглавил Всесоюзный институт каучука и гуттаперчи, открыл новый источник каучука — бересклет — и получил за это в 1943 году Сталинскую премию. А потом скрылся от репрессий тихим преподавателем ботаники в Орехово-Зуевском педагогическом институте. Это ППС познакомил меня с Боссе, надоумил писать и организовал издание книги, остающейся злободневной уже 55 лет.
— Сейчас природный каучук не актуален?
— Все наши шины — это химия. Хотя, уверен, настанет время, когда человечество вернется к более широкому использованию природных соединений. Во всяком случае, это безопаснее и для человека, и для природы.
— Как вышло, что вы решили заняться именно морскими млекопитающими и, в частности, белухой?
— Потому что попал к Клейненбергу. Ну, а дальше, как всегда: начинаешь чем-то всерьез заниматься — и открывается много интересного. Мозг у дельфинов бывает больше, чем у человека, поведение — невероятно сложное, часто непонятное, огромный звуковой репертуар даже в слышимой части акустического спектра. Поморы раньше называли белуху морской канарейкой. Ясно, что это не просто крик, — это разговор. У каких-то дельфинов — явный матриархат, у некоторых китов — гаремы. Желание привлечь внимание широкой публики к этой необычности привело к тому, что мы с Сергеем Евгеньевичем написали несколько популярных книг о морских млекопитающих. Книга «Наш друг дельфин» выдержала несколько изданий. Чтобы не раздражать ученых-коллег, написали под псевдонимом научно-фантастическую повесть о жизни дельфинов. Кстати, немало из того, что мы там с Всеволодом Бельковичем нафантазировали, сейчас подтвердилось научными данными, остальное, уверен, еще подтвердится. Стало ясно, что нельзя промышлять ни китов, ни дельфинов. Это наши братья по разуму, хотя их разум — чуждый нам. Они древнее, и, возможно (если судить по количеству нервных клеток и связей), более «умнее». После одной из таких книжек в середине 70-х Сергею Евгеньевичу сказали в ЦК КПСС, что рабочие завода «Светлана» прислали письмо с просьбой запретить промысел дельфинов на Черном море. «Дайте профессору Клейненбергу возможность изучать дельфинов!» — писали рабочие. Это оказалось эффективнее наших многочисленных петиций в Академию наук: промысел на Черном море запретили.
— И вот в этот момент вы, наверное, поняли: если вы хотите что-то добиться в экологии, надо действовать по партийной линии.
— Ну, это и в тогдашней конституции было: статья 6 о КПСС, как «руководящей и направляющей» ….
— А сегодня что делать, если наука требует?
— Я сторонник принципа малых дел — «делай что должно, и будь что будет». Каждый в доступной ему области не должен хотя бы совершать подлости. Уверен, что заметная моральная деградация общества, в которой мы сейчас пребываем, — кремлевский продукт. Примерно в 1997–1998 годах было решено, что надо каким-то образом отвернуть народ от политики. Вместо коммунистических рычагов страха и давления — пропаганда потребительства, православия и спорта. Рекламные щиты на улицах «Живи здесь и сейчас!» — не просто строительная реклама, это лозунг современного образа жизни. Важно только то, что здесь и сейчас. Реклама в метро несколько лет назад: роскошная женщина в мехах и надпись «Отдайся ночью, чтобы властвовать днем». Сработало! Люди стали меньше думать о добром и вечном, полагая, что это атрибуты советского прошлого. А рыночная экономика, решили они, требует «здесь и сейчас». И вот результат.
— С идеологией малых дел вы и вступали в КПСС?
— Вступал с мыслью, что нужно менять мир к лучшему. Это было в конце 50-х, и ужасы ленинзма-сталинизма тщательно скрывались и официальной пропагандой, и, что особенно страшно, даже в семьях. Вступал в партию в Институте морфологии животных. На собрании меня спросили: «Какой ваш идеал в науке?». Отвечаю: «Академик Шмальгаузен». «Как академик Шмальгаузен?! Вашим идеалом должен быть Ленин!». Пожурили, но в партию приняли. Председателем парторганизации был замечательный человек (он потом стал директором института) — Тигран Турпаев. Он был физиологом, а для меня еще и образцом поведения. Он не юлил, не подличал, мог промолчать, но не мог сделать гадость. Когда мы его хоронили, я сказал: «Спи, командир»…
С партией связан еще такой эпизод. Для того чтобы выехать в командировку за границу, надо было получить рекомендацию бюро райкома партии. По советско-индийскому научному сотрудничеству индусы прислали к нам ботаническую экспедицию. В ответ Академия наук формировала экспедицию зоологов. Уже было четыре человека из Ленинградского Зоологического института. Нужен был молодой москвич — зоолог с «языком». Знание языков тогда было не таким всеобщим, как сейчас, а мой английский был получше школьного — мама прозорливо настояла, чтобы я походил в языковый кружок Дома ученых. И вот меня взывают на бюро райкома и спрашивают: «А почему вы с бородой?» Отвечаю: «Маркс был тоже с бородой». «Вы себя сравниваете с Марксом?! Вы недостойны представлять Советский Союз!» Потом смягчились и говорят: «Сбрейте бороду и тогда приходите за характеристикой». Тут первый секретарь, дама, которая меня пожалела, говорит: «Давайте не будем принимать отрицательного решения. Поручите мне решить этот вопрос». Когда все разошлись, она подписала характеристику, и я поехал в Индию бородатый. Индия, надо сказать, сыграла в моем становлении как зоолога колоссальную роль.
— А что произошло?
— Дело в том, что наша страна с зоологической точки зрения очень бедная. Мы находимся в Голарктике, и от всего многообразия растительного и животного мира у нас рожки да ножки. То, что я увидел в джунглях, горах и пустынях Индии, меня потрясло.
— А говорят, что у нас богатые флора и фауна.
— Это неверно. У нас есть только два сравнительно богатых видами региона — Приморье и Западный Кавказ. Индия невероятно расширила мой кругозор как зоолога и биолога. До того я знал Европейскую Россию, Арктику, Северную Атлантику и Северную Пацифику, Каспий, Охотоморье, Курилы. После знакомства с природой Индостана пришло другое, более глубокое понимание биосферы.
— Но вернемся к морским зверям, которых вы на всю жизнь полюбили.
— Да, беломорский лысун, тюлень хохлач, чукотские моржи, каспийская и байкальская нерпы, охотские и балтийские тюлени, калифорнийские морские слоны и дельфины — мне нравились морские звери, и я использовал любые возможности для их изучения. Но не чистая зоология, а теоретическая и функциональная морфология. Сейчас забыто словечко «Бионика», а когда-то такие исследования были популярны. Искали, какие приспособления у животных можно смоделировать в технике. Я сначала был энтузиастом этого направления, но потом отошел — очень уж там просматривались интересы военных. А вот теоретической морфологией увлекся всерьез. И тут мне повезло: судьба свела меня со вторым Учителем с большой буквы — Тимофеевым-Ресовским.
— Где это произошло?
— В доме выдающегося математика, одного из основоположников кибернетики Алексея Андреевича Ляпунова. Он бы тестем моего ближайшего друга Николая Воронцова. С КЮБЗовских времени с Колей мы шли по жизни рядом, иногда чуть ругаясь и конкурируя. Вся семья Ляпуновых была дружна с опальным Тимофеевым-Ресовским. Ему нельзя было жить в Москве, он бывал здесь наездами. Он был любимым учеником профессора Кольцова, имя которого носит наш институт. Судьба его удивительна. Кольцов был одним из выдающихся биологов начала ХХ века, он предсказал матричный принцип редупликации — фактически всю современную молекулярную генетику. А во время революции он был активным эсером.
— Плохо дело. Мало того что генетик, так еще и эсер.
— Когда он служил доцентом Московского университета, но, говоря по-современному, был хранителем эсэровского «общака». В 1919 году был приговорен к расстрелу, но Ленин отменил приговор по просьбе Горького, Кропоткина и Луначарского. В тюрьме он вел уникальный дневник, описывая изменения организма человека, ждущего смерти. В общем, это был человек совершенно неординарный — ученый, общественный деятель, патриот. Для Тимофеева-Ресовского он стал тем же, чем для меня стал потом сам Николай Владимирович. Так вот, Кольцов послал своего любимого ученика в Германию, когда немцы попросили помощи в развитии биологии. Провел в Германии ставшие классическими исследования в области физико-химической биологии, радиобиологии и генетики. В 1937 году отказался вернуться в СССР (в том числе и по совету Кольцова) и стал «невозвращенцем».
Когда после войны в СССР решили развивать радиобиологию, то обратились к союзникам — американцам. Те ответили, что это США должны просить помощи у СССР: ведь у них есть Тимофеев-Ресовский! Нашли его в 1946 году в Карагандинском лагере — полуслепого доходягу. На Южном Урале создали секретный институт, привезли из Германии его жену и библиотеку. Потом разрешили переехать в Свердловск, где он создал и возглавил отдел биофизики в Институте биологии. Коля был знаком с Николаем Владимировичем с его первого приезда в Москву в 1955 году и выступления на знаменитом «капичнике» — семинаре академика Петра Капицы, легендарного Нобелевского лауреата. Потом, когда Николай Владимирович приезжал в Москву, он часто ночевал в доме Ляпуновых.
— А как вы поняли, что он стал вашим Учителем?
— Не сразу. Я был тогда на распутье: занимался изучением морских зверей, но меня все больше привлекали общие эволюционные проблемы. И в какой-то приезд Н.В. в Москву я попросил о встрече и разговоре. Он меня не знал, конечно, но ему, наверное, было интересно встретиться с зоологом. Он и себя часто называл «мокрым зоологом» — по исходному зоологическому образованию. Н.В. подробно расспросил меня, какой материал у меня есть, что меня интересует, и стал размышлять вслух, как было бы интересно двинуться дальше. Я хотел изучать морфологическую изменчивость — как меняются мелкие признаки у животных. Он говорит: «Давай подумаем. Чтобы судить об изменчивости млекопитающих, нужно, чтобы были данные по всем отрядам. По изменчивости отряда даст представление несколько видов. Изменчивость вида можно понять по изменчивости нескольких популяций по десятку признаков. Расчет коэффициента вариации одного признака занимает около 15 минут. Значит, на все расчеты надо меньше года. Года за три фундаментальный обзор сделать можно». Такого типа мозговой штурм был для него, как я понимаю, заурядным, но для меня — совершенно новым. Докторскую диссертацию по изменчивости млекопитающих я защитил через четыре года после этого разговора.
Защищать докторскую надо было и для денег (со «степенью» зарплата выше), и главное, чтобы получить больше возможностей для работы. Например, доктор наук мог покупать ежегодно какое-то число зарубежных книг и иметь персональный абонемент в Ленинке. Он у меня с тех пор лежит.
— Каким человеком был Тимофеев-Ресовский?
— Это был, конечно, гений. У Н.В. были заповеди — афоризмы. Одна из главных: «Никогда не делай того, что лучше тебя сделают немцы». То есть, не детализировать кем-то сделанное, а штурмовать неизвестное. В «Изменчивости млекопитающих» я попытался выяснить закономерности внутривидовых морфологических изменений. В конце концов, я пришел к обоснованию нового направления в биологии — популяционной морфологии. И это благодаря нашим беседам.
От изучения изменчивости один шаг к изучению эволюции: как возникают видовые адаптации, чем один вид отличается от другого? К изучению процесса эволюции приходят все биологи. В общем-то, это было развитие дарвинизма, бесконечного по своей сути. «Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции» — очень точно написал знаменитый американский генетик Феодосий Добржанский — еще один «невозвращенец», с которым я был знаком по переписке.
Я не помню, кому из нас — Коле Воронцову или мне, — пришла идея упросить «Колюшу» (так, а еще «Дедом» называли Тимофеева-Ресовского ближайшие ученики) сделать вместе с нами обзор теории эволюции. Сам Дед ничего не писал — не только потому, что плохо видел после лагерной пеллагры, но потому что ему всегда было интереснее «потрепаться». Договорились, что сделаем обзор современной эволюционной теории на уровне вида — что происходит с популяциями. Работой с Н.В. увлекся. Я ездил к нему в Обнинск три раза в неделю, даже оформлял квартальные проездные билеты. Приезжал в Обнинск ранним утром, мы завтракали и работали часов до четырех. У нас был детальный план будущей книги, и каждый день я обсуждал с Н.В. какую-то тему. Сначала я читал написанное в прошлый раз. Потом говорил о том, что собрал по данному вопросу, или что прислал Воронцов (он тогда жил в Новосибирске), добавляя свои соображения. В Москве у меня были папки по всем разделам, куда я складывал копии статей, рефератов, выписок.
Надо отдельно сказать о рефератах. Был «железный занавес». Но по всем наукам выходили «реферативные журналы». Каждый месяц, а иногда и чаще, по зоологии, ботанике, генетике и другим наукам публиковался толстенный том с тысячами коротких изложений содержания научных работ, опубликованных на Западе. За такой реферат платили то ли три, то ли пять рублей. Еще лаборантом я стал ежемесячно зарабатывать их написанием (в основном, перевод с английского) рублей 50–70. Это были большие деньги — зарплата младшего научного сотрудника в академическом институте равнялась 120 рублям. За 60–80-е годы я написал, наверное, несколько тысяч рефератов. Советская наука тогда составляла примерно пятую часть мировой (сейчас, наверное, около процента), но благодаря реферативным журналам, «железный занавес» в естественных науках был похож на прозрачный тюль. Я делал рефераты по млекопитающим, по зоологии, по морфологии, по популяциям, по охране природы. Это сильно расширяло кругозор.
Так вот, по ходу моего «доклада» Николай Владимирович всегда что-то спрашивал, уточняя услышанное. Потом несколько минут молчал, играя пальцами и, наконец, с командой «Пиши!» — начинал диктовать, расхаживая по крошечной столовой, где мы и сидели. Он медленно диктовал, а я, кое-как поспевая («с обезьяньим проворством» — как утверждал Н.В.), печатал на пишущей машинке. Иногда он требовал прочитать какую-то записанную фразу и менял ее. Каждая тема занимала примерно страницу текста. «Ну, вот!» — говорил он и победно садился в кресло. Тут наступала моя очередь. Я просил пояснить непонятное, обращал внимание на что-то, оставшееся за пределами текста, а порой и возражал. Он разъяснял, дополнял написанное, а на возражения чаще всего обрушивался на меня, прямо-таки «растирая в порошок». Дальше было самое замечательное — каждый раз после такого разноса он говорил: «Ладно. Пиши еще!» — и диктовал что-то дополнительно, каждый раз крайне ценное. За рабочий день мы успевали написать обычно две-три страницы.
«Краткий очерк теории эволюции» был опубликован издательством «Наука» дважды — в 1969 году и в 1977 году. Перед публикацией второго издания Н.В. приговаривал: «Книги надо издавать, начиная со второго издания — чтобы избежать дурацких ошибок». «Краткий очерк …» остается до сих пор одной из самых цитируемых эволюционных сводок.
— Но вы написали вместе не одну книгу.
— Работать с Н.В. было невероятно интересно. Мы так же, как первую, написали еще одну книжку — «Очерк учения о популяциях». Там «третьим» был другой его ученик, ботаник Николай Глотов. Работа над «Кратким очерком» и учением о популяциях была крайне важна для моего «взросления» как в теоретической биологии, так и методологии науки. В Тимофеевском выделении элементарных единиц и движущих сил мне видится сегодня мощное развитие «вернадскологии с сукачевским уклоном», с одной стороны, и научных подходов «Нильсушки» Бора и Чарльза Дарвина. Именно освоение этой методологии, как я думаю, позволило мне написать знаменитый, как иногда говорят, учебник по теории эволюции, который выдержал шесть изданий и был переведен в разных странах. Он был впервые опубликован в 1976 году, а последнее издание вышло в 2006 году — через 30 лет. Написал я его вместе с талантливым физиологом растений из Махачкалы Маликом Юсуфовым. С талантливыми людьми вообще интересно работать — можно продуктивно спорить, ругаться, и так приближаться к истине.
В ходе работы с Н.В. над учением о популяциях мы попутно немного «попортили звездное небо». Это еще одна присказка Деда: «Звездного неба не портит», — то есть, звезд с неба не хватает.
— Что же вы такого натворили?
— Мы придумали новую науку — фенетику. Всем известная генетика — наука о генах, а фенетика — наука о признаках. Вместе со словом «фенотип» датчанин В. Иоганнсон в 1909 году ввел понятие и слово «фен». Фен — элементарный признак. Глаза карие или зеленые, раковина закручена вправо или влево, пятно есть или нет, и так далее. Как морфолог, я вижу мельчайшие вариации в формах и расположении чешуй на голове ящерицы и лапке птицы, жилках в крыле стрекозы и летучей мыши, вибриссах (усах) тюленей. Как популяционист, я сравниваю группы особей внутри вида по частотам этих признаков.
— Что-то я про эту науку не слышу. Вы ее придумали, и где она?
— В 1972 году журнал «Природа» опубликовал статью «Фены, фенетика и популяционная биология». Через несколько лет издательство «Наука» опубликовало небольшую книгу «Фенетика». Ее вскоре перевели в Японии и в США. Похоже, именно за эту книгу и «Изменчивость млекопитающих» (тоже переведенную) меня выбрали американским академиком. При фенетическом подходе у любой особи можно найти тысячи мельчайших вариаций в строении. Эти вариации («фены») отражают индивидуальный для каждого набор генов — генотип. Чтобы описать генотип, нужен сложный молекулярно-генетический анализ генетического кода, записанного в строении ДНК. Анализ элементарных вариаций фенотипа подводит зоолога, ботаника, антрополога к пониманию генотипа и генофонда (суммы генотипов популяции) без необходимости анализа строения ДНК. По расположению бороздок на носу теленка (дерматоглифика губного зеркала) оказалось возможным определить, будет ли корова жирномолочной; по форме пятна над глазом у косатки можно сказать, в каком районе океана она живет. Перепады частот фенов маркируют границы внутривидовых групп, значение которых необходимо для разумной эксплуатации и охраны. Я думал, что фенетика будет быстро развиваться. Было проведено четыре всесоюзных совещания, быстро накапливались интересные научные результаты. Но быстрое развитие молекулярной биологии сделало сложные генетические исследования массовыми. Актуальность фенетических исследований пропала. Думаю, не навсегда. Молекулярная биология никогда не доберется до каждой популяции. А фенетика сможет!
— Почему?
— Во-первых, потому, что молекулярно-генетический анализ дороже фенетического. Точнее. Но дороже. А излишняя точность иногда мешает. Молекулярная генетика — это чтение газеты через сильное увеличительное стекло — видны буквы, которые с трудом складываются в слова. А фенетика — чтение той же газеты через перевернутый бинокль — читаются только заголовки статей. Во-вторых, я уверен, что пока существует род людской, всегда будут натуралисты — люди, которым интересно исследовать не молекулу, а сову или дуб целиком.
— Это сейчас дорого, но с каждым годом генетические исследования будут дешеветь.
— Конечно. Но вот пример с серым китом, которым я вновь занимаюсь спустя полсотни лет после работ на Чукотке. Это единственный прибрежный кит, который размножается в мексиканских лагунах. Мигрирует к нам на Чукотку, на Сахалин. Он морской пахарь — нижней челюстью вспахивает дно. Там много моллюсков и ракообразных, он их отцеживает и проглатывает. Но так пахать можно только на глубине не больше 40–
— Не забудем, деньги выделяют потому, что на этом вы, экологи, настояли.
— Ну да. Это образцово-показательная история. Сто лет назад серых китов охотско-корейской популяции выбили. В 20-е годы последним крупным китобойным центром был южнокорейский Пусан. Впрочем, еще в 50-е годы северо-корейцы ставили гарпунные пушки на рыболовецкие шхуны. Как они объясняли, для того, чтобы «бороться с американским империализмом». Однако в 1960 году на шельфе Сахалина обнаружили группу из 15 серых. Потом их стало 30, 50, 70… Но пятнадцать лет назад сюда приходят нефтяники. На лицензионной территории «Сахалин-2», как оказалось, буквально китовый «детский сад», где вплотную к берегу кормятся мамки с детенышами. Экологи в панике — через китовое пастбище собираются проложить нефтепровод. Спасла положение, как ни странно, лондонская биржа. Дима Лисицын из «Экологической вахты Сахалина» умудрился опубликовать заметку в лондонской Finantional Times о том, что «Shell», «Mitsui» и «Mitsubishi» грозят погубить серых китов. На следующий день акции этих компаний поползли вниз. Тогда они пришли во Всемирный союз охраны природы (IUCN): «Мы не против китов, скажите, что надо делать».
IUCN — уникальная общественно-научно-правительственная организация, куда входит сотня государств (в том числе Россия), многие сотни неправительственных экологических организаций и тысячи волонтеров-экспертов из всех стран. Я хорошо знаю IUCN, с 1978 года я их эксперт, несколько лет я был советником от Северной Евразии и вице-президентом. Она, кстати, ведет Международную Красную книгу. На деньги нефтяников IUCN создал международную группу экспертов, и нефтяники согласились (куда им деться!) эти рекомендации выполнять. Вот уже несколько лет мы раз в полгода собираемся, обсуждаем планы нефтяников, даем им рекомендации.
— Ну и что, удается защищать китов?
— Да. Например, нефтяники потратили 50 млн долларов, чтобы труба обогнула китовый детский сад. Теперь на каждом их судне ведется наблюдение, и если киты оказываются вблизи, судно приостанавливается. Число китов у Сахалина растет. Когда пришли нефтяники, в водах Сахалина было около 90 серых, сейчас — около 130. Наверное, без нефтяников этот рост был бы больше. Но раз рост есть, значит можно совмещать аккуратное природопользование с сохранением биоразнообразия. Это крайне важно не только для серых китов, а вообще как пример должного взаимоотношения человека с природой.
— Однако все это выглядит чистой случайностью. Если бы не эта заметка, если бы не Дима Лисицын, китов можно было бы потерять.
— Наверное. Потому-то этот случай так важен: оказывается, даже нефтяники могут быть экологически ответственными. Правда, стало сложнее, когда главным в «Сахалин Энердж» стал «Газпром»: теперь они с большим скрипом принимают наши рекомендации.
Еще в 60-е годы крупнейший химик-технолог академик Борис Ласкорин пришел к выводу, что любые промышленные технологии могут быть экологически приемлемыми, безотходными. Отходы одного производства становятся сырьем для другого, никаких выбросов и сбросов нет. Проблема, как сделать это экономически выгодным. Главное препятствие на пути распространения безотходных технологий — жадность, желание поскорее получить побольше прибыли. Но даже если безотходные технологии станут всеобщими, они не решат другой важнейшей проблемы в системе «человек — природа» — минимизации последствий того, что человек уже успел натворить. Это как раз то, что меня сейчас занимает. Как говорится, «чем дальше, тем страшней».
— Поясните, откуда такой страх? Кругом говорят об устойчивом развитии.
— Похоже, мы выбросили в окружающую среду столько глобальных и вечных загрязнителей, что один из четырех законов экологии («природа знает лучше») перестает работать. Среда обитания необратимо меняется. Все наши попытки замедлить эти изменения — как с климатом, например, — никогда не вернут того, что было.
— Мы только отодвигаем свой конец?
— Имеется в виду не конец, а уровень существования человечества. Биосфера как система все жестче реагирует на влияние человека. Скоро мужчины не смогут оплодотворять женщин, а женщины не смогут вынашивать детей. Средняя концентрация сперматозоидов в мире сокращается в последние десятилетия на 1–2% в год (в сильно загрязненных районах — еще сильнее). Уже сейчас в больших городах и районах с интенсивным применением пестицидов значительная часть беременностей заканчиваются выкидышами. Никакого «устойчивого развития», о котором много говорят, не может быть. Надо бы побыстрее переходить к «кризисному управлению» развитием биосферы, чтобы хотя бы на сниженном уровне сохранить человечество. В середине прошлого века демографы прогнозировали, что к 2000 году будет 9 млрд человек, а оказалось только шесть.
— Однако мы сильно отвлеклись от морфологии. Вы говорили, что фенетика еще пригодится.
— Я говорил, что фенетика позволит изучать все популяции, и этого никогда не сможет сделать генетика. Пару лет назад Владимир Путин в водах Камчатки охотился с арбалетом на серого кита, чтобы добыть материал для генетического исследования. На конце стрелы — чашечка, которая вырезает кусочек кожи. Потом с помощью сложного молекулярного анализа (секвенирования) определяют последовательность нуклеотидов для этой особи в виде текста. Сравнение текста одного кита с другими позволяет сделать вывод о возможном родстве. А я могу такой же анализ сделать на основе сравнения фотографии.
— И результат будет таким же?
— Я думаю, результат будет лучше, потому что я могу всех китов сравнить по фотографиям. А биопсию у всех трудно взять. Молекулярная биология стала развиваться тогда, когда на нее пошли деньги. Все знают о грандиозной программе «Геном человека», на которую были выделены миллиарды долларов. Так вот, исходно такие грандиозные средства выделялись для того, чтобы разработать генетически-инженерное биологическое оружие. Найти такие агенты, которые могли уничтожить, скажем, всех черных и оставить только белых. Для этого нужно знать, чем одна группа людей на уровне наследственного аппарата отличается от других. Этим занимались, по-видимому, все крупные страны, кроме Индии и Китая. Это страшный секрет, в котором никто не признается. Призналась только одна страна — Южная Африка, где был апартеид. Потом он рухнул, и на развалинах режима мы много чего узнали. ЮАР — одна из самых индустриально развитых стран мира. Там, например, тайком была сделана (и испытана!) атомная бомба. МАГАТЭ провело сто пятьдесят инспекций — нет бомбы, атомная индустрия исключительно мирная. Кстати, этот вывод — еще одно доказательство тому, что МАГАТЭ нельзя верить. Так вот, после падения апартеида правительство Манделы не только уничтожило семь готовых атомных бомб и всю технологическую документацию, но и тайно разработанное белыми расистами гентически-инженерное оружие, позволяющее уничтожать черных.
— А его применяли?
— Лучший обзор об этом в 2005 году опубликовал Лев Федоров — всё это есть в Интернете. Там подробно описана и «Свердловская история» 1979 года.
— В связи с этой историей называют разные цифры. Сколько тогда было жертв?
— Несколько десятков, причем гибли мужчины призывного возраста. Тогда случайно боевой штамм сибирской язвы вырвался из подземелий Свердловска-19. Вот уж действительно дьявольское генно-инженерное оружие! Я оказался причастен к проблеме, когда в 90-е годы возникла идея придать пострадавшим семьям такой статус, как будто их кормильцы погибли на войне. Нужна была поправка к закону, но обосновывающих документов в архивах найти не могли. После отчаянных поисков, наконец, нашли справку об уничтожении стольких-то мешков документов «о разработке биологического оружия». Сами документы были уничтожены, а акт их уничтожения сохранился. Тогда я был советником Бориса Ельцина, президента России, по вопросам экологии и охраны здоровья. А в 70-е годы Ельцин был первым секретарем обкома КПСС в Свердловске. Я как советник встречался с ним, один на один, по часу-два, раз в 2–3 месяца по разным конкретным вопросам. Во время очередной встречи рассказываю об этой эпопее с документами. И он отвечает загадочной фразой: «Значит, они меня обманывали».
— А кто и в чем его обманул?
— Не знаю. Лев Федоров раскопал где-то воспоминания генерала Петра Бургасова, тогдашнего главного санитарного врача СССР, которые хвастался, что выставлял тогда Ельцина из служебного кабинета, чтобы сообщать что-то о катастрофе 1979 года по правительственной связи председателю КГБ Юрию Андропову. Так вот, справка о сожженных документах помогла — в апреле 1992 года Ельцин подписал закон «Об улучшении пенсионного обеспечения семей граждан, умерших вследствие заболевания сибирской язвой в городе Свердловске в
В фильме, который Дильбар сделала по Свердловской истории (у нее несколько потрясающих фильмов по «секретной» экологии — Чернобылю, Новой Земле, Томску-7, пестицидам), есть кадры рядов могил погибших с одинаковыми табличками. И она обратила внимание, что на том же кладбище есть еще несколько участков с похожими захоронениями. То есть, массовая гибель была вокруг Свердловска-19 не раз.
— Для меня есть два разных Ельцина. Один — периода 1989–1992 годов, заряженный на поворот России к демократии и рыночной экономике «с человеческим лицом». Мой рабочий кабинет был в
— Потухший, потому что ничего не вышло?
— Скорее, устал от тяжести власти. Запутался между Чубайсом, Коржаковым, Черномырдиным и другими из созданного им окружения, которое стало им вертеть. Для меня он изменился в 93-м году, и расстрел Белого дома поставил точку.
— А какой он был в общении? Веселым, угрюмым?
— Со мной он никогда не шутил, был серьезным и обстоятельным. Запомнил разговор по пестицидам. Говорю: «Загрязнение всеобщее и опасное, надо что-то делать». А он тут же рассказывает о работах академика Бараева в Северном Казахстане, где с помощью пестицидов получали до 45 центнеров зерна с гектара.
— Он подготовился к встрече?
— Думаю, он знал это раньше. В общем, обсуждали проблему пользы-вреда пестицидов на вполне профессиональном уровне. Кстати, во всех случаях, когда мы с ним что-то обсуждали и он мне что-то обещал, всегда исполнял.
Вот, например, такой эпизод. Положил я на стол Ельцину отчет о работе правительственной комиссии по радиоактивным отходам, затопленным в морях вокруг России (он назначил меня председателем), и говорю: «Давайте все это опубликуем, пусть эта радиоактивная грязь останется советской, а у России будут чистые руки!» Реакция мгновенная — «Публикуйте!» Подготовил отчет к публикации под названием «Белая книга о радиоактивных захоронениях» и в предисловии написал, что призываю все страны, производившие такие захоронения, открыть свои аналогичные досье. Администрация Президента сделала 200 копий, разослали по всем посольствам. Другие страны не вняли моему призыву, военные и атомщики с тех пор заимели «зуб» на меня, а Белая книга остается самой цитируемой из моих публикаций. В авторском коллективе моя фамилия стоит первой, хотя я и Яблоков.
А вот другой случай. Поездка в Астрахань, на Астраханский газоконденсатный комбинат. Это очень опасное производство: газ с очень высоким содержанием сероводорода. Выбросы сероводорода смертельно опасны. И, по неофициальным данным, смертельные случаи были неоднократно, но скрывались. Люди боятся, не хотят повторения таких случаев. К таким поездкам президента по стране я, как советник по экологии и здоровью, собирал разную информацию, готовил аналитическую записку президенту. И вот митинг на комбинате, а перед этим — деловой обед в заводоуправлении. За столом человек 15. Газпромовские руководители наперебой рассказывают, какое это важное и нужное производство и как его выгодно будет развивать. Слушаю, и становится понятно, что Ельцин все это будет повторять на митинге. А у меня дурацкое свойство: если понимаю, что дело плохо, то в какой-то момент теряю чувство опасности и начинаю говорить то, что думаю. Как это называется, даже не знаю.
— Это называется чувство личной ответственности.
— Может быть. Так и тут, я не выдержал и говорю: «Борис Николаевич, я с этим не согласен. То, что здесь происходит, никуда не годится». И вижу, как он насупливается: «Вы не правы, — бросает с раздражением. — Надо думать о государстве!» Я что-то лепечу в ответ, но уже понимаю, что моя песенка спета, и вряд ли я вернусь в Москву советником президента. Кончается обед, он выходит на трибуну и, сказав о важности работы комбината, вдруг начинает говорить о тех опасностях, на которых я настаивал. Он был вспыльчивый, жесткий, но мог мгновенно проанализировать ситуацию и ухватить суть проблемы. Он был по-звериному умный. Но не мудрый. То, что он в какой-то момент стал одним из демократических лидеров, мне кажется, заслуга, прежде всего, Геннадия Бурбулиса. С мозгами Бурбулиса, Андрея Сахарова, Юрия Рыжова, Гавриила Попова, Анатолия Собчака, Сергея Шахрая Ельцин, с его смелостью и упрямством, мог бы стать не просто выдающимся, а великим государственным деятелем.
— А вы от него ушли!
— Да, и дважды. Первый раз я подал в отставку с должности советника после расстрела Белого дома. Написал заявление. Ельцин его не подписал, а через своего помощника спрашивает, чего я хочу. Передаю, что, мол, не хочу быть с вами рядом, но хочу продолжать работать для России, готов, например, создать при Совете безопасности комиссию по экологической безопасности. Указ Президента начинался (цитирую по памяти) так: «Учитывая желание Яблокова сосредоточиться на работе в Совете безопасности, освободить его от должности советника и назначить председателем комиссии по экологической безопасности». Для меня такое отношение до сих пор удивительно.
Бывало, правда, и совсем иначе. Иногда он был беспощаден к людям. Например, по отношению к моему другу, академику Андрею Воробьеву, директору Гематологического центра, врачу от Бога. Я должен был, как советник, предлагать кандидатуры министров здравоохранения и экологии. По моему предложению Андрей был назначен министром здравоохранения. Через полгода идет заседание правительства, которое ведет Гайдар. Входит Ельцин и вдруг грубо обращается прямо к Воробьеву: «А вас я увольняю!». Воробьев встает и падает без сознания. С заседания его вынесли на носилках.
— Наверняка было что-то, чего вы не знаете.
— Да какая разница?! Так нельзя. Он чуть не убил человека. Трагикомизм ситуации в том, что когда в 1996 году у Ельцина начались серьезные проблемы с сердцем, Андрей его спасал.
— Как вам работалось в Совете Безопасности?
— Это было удивительное время. В Комиссию по экологической безопасности Совета Безопасности, которую я возглавлял, входили 19 руководителей всех мало-мальски имевших отношение к экологии государственных структур. Были даже зам. председателя КГБ и зам. министра обороны. Я придумал, как сделать, чтобы решения комиссии не оставались на бумаге. В положении о Комиссии записали (и президент утвердил), что решения Комиссии обязательны для рассмотрения соответствующими органами государственного управления. Обязательны не для выполнения — мы не правительство, — но для рассмотрения. Все это позволяло мне оперативно решать многие экологические вопросы. С другой стороны, благодаря этому Виктор Черномырдин (премьер-министр в 1992–1998 годах) считал меня личным врагом. Краешком глаза я видел даже одну из его записок Ельцину, где он в крепких выражениях требует меня убрать. Почему-то Ельцин этого не делал. За 1993–1996 годы мы рассмотрели на нескольких десятках заседаний Комиссии все крупные экологические проблемы России и наметили пути их решения. Для истории все сохранилось в четырех томах Материалов, но при повороте государства в сторону от экологии все это оказалось невостребованным. Комиссия по экологии была единственной постоянно и регулярно действующей комиссией Совета Безопасности России со штатным председателем. Да и кроме регулярных обсуждений экологических проблем было сделано немало. По просьбе Комиссии были даже созданы специальное подразделение по экологии в ФСБ и управление — в Минобороне. Исключительно важным было тесное сотрудничество с министром (потом председателем Госкомитета) по экологии Виктором Даниловым-Данильяном. Он и подхватывал какие-то решения, и инициировал разные обсуждения.
— Расскажите про Гринпис СССР, который вы основали.
— Началось все с Чернобыля. Сейчас не я один считаю, что Чернобыль стал одной из главных причин компании гласности и «перестройки» в СССР. Сотни тысяч ликвидаторов, сотни тысяч переселенных, растущее экономическое и психологическое напряжение на фоне типичной и даже усиленной советской секретности… Чернобыль — как вскрывшийся нарыв. К этому прибавились и другие экологические беды — Минводхоз роет бессмысленные каналы, Минсельхоз занимается безудержной «химизацией» сельского хозяйства, Минмедбиопром — производством кормового белка на парафинах нефти («белково-витаминный концентрат» — БВК), Минатом — тут и там «мирные» подземные ядерные взрывы… Сейчас воспринимается как сказка то, что в официальный перечень сведений, запрещенных для публикации, входили, например, состав шоколада и сливочного масла, содержание пестицидов в продуктах питания и даже критика проектов переброски рек.
Экологическое неправительственное движение стало первым, разрешенным КПСС, протестным движением. Если ты защищаешь права человека, то власть тебя посылает в психушку. А вот экологам было разрешено высказываться открыто. Мы выступали за решение экологических проблем, которые создала тоталитарная система. Все больше людей понимало, что протест против переброски рек, против строительства канала Волга—Чограй, против БВК на парафинах нефти — это протест против системы принятия решений, в которой КПСС решает всё.
Помню, мы собрались в доме академика Евгения Велихова. «Мы» — это Артур Чилингаров, Сергей Залыгин, я и Велихов. Велихов, который после Чернобыля был чрезвычайно активен, возглавлял Комитет советских ученых против ядерной войны. Он был искренне заинтересован в экологических проблемах, потому что, видимо, понимал: натворили столько, что надо разгребать. Сергей Залыгин — писатель, главный редактор «Нового мира», председатель Ассоциации «Экология и мир». А я был самый погруженный в экологические проблемы — остальные занимались ими попутно. С канадцем Дэвидом Мак Таггартом, одним из основателей Гринпис, я познакомился в 80-е годы на какой-то встрече по защите китов. Компания Гринпис против промысла китов была второй глобальной компанией Гринпис. Первой была антиядерная — протесты против подземных ядерных взрывов США на Аляске и Франции на атолле Муророа.
Гринпис — самая независимая экологическая организация, которую я знаю. Она основана на поддержке не бизнеса или правительств, а простых людей. Миллион человек по одному доллару в год — вот и средства для работы. Гринпис-СССР ни от кого никаких денег не имел, мы только собирались разворачивать работу. После развала СССР возник Гринпис-Россия, но это уже другая организация. Они меня приглашают как эксперта, мы очень дружим.
— Сейчас много «разоблачительных» разговоров вокруг Гринпис: что это организация коммерческая, которая выполняет политические заказы разных компаний и фирм…
— Не верьте этой лжи. То, что они многим промышленным компаниям мешают, — точно. Гринпис — по-прежнему чистая организация, и фундамент ее деятельности — поддержка простых людей. Недавно узнал, что Дильбар каждый месяц переводит туда сто рублей. И вот на тысячах таких пожертвований держится Гринпис. Я об этой ее благотворительности недавно узнал.
— Она что, не говорила?
— Нет. А узнал я об этом случайно. Было 25-летие этой организации, и ей прислали приглашение на два человека. Она взяла меня с собой. Хотя я у них и книжки публиковал, и консультировал много раз, но позвали именно ее. Она же их спонсор!
—
— Всеми морскими зверями — китообразными, тюленями, белым медведем, каланом и их проблемами, которых море. Одни из последних горячих обсуждений касаются гренландского тюленя в Белом море. До начала массового промысла в 40-е годы прошлого века беломорская популяция насчитывала не менее 5 млн тюленей. В конце февраля — начале марта они рожали детенышей на льдах в горле Белого моря. Пока ледяные поля крутит течениями, детеныши лежат на льду, растут, линяют, и к тому времени, когда лед выносит в Баренцево море, бельки превращаются в серок, могут идти в воду и начинают самостоятельную жизнь. Когда поморы заселили берега Белого моря в XVII веке, начался промысел. Течения иногда подносили к берегам льды с детными залежками, и детенышей можно было легко добывать. Так было лет двести.
Лет 50 назад я был на этом промысле. На ледоколе «Красин» из Мурманска отправлялись колхозные бригады бить тюленей, а я с ними — наблюдать, исследовать убитых (я морфолог и меня интересовала изменчивость разных признаков строения тела). Били и взрослых, и детенышей — в основном, для мяса. Добывали до 200 тысяч. Позднее на залежки охотники стали добираться на вертолетах, а сами залежки обнаруживали с помощью авиаразведки. При таком промысле численность тюленей стала заметно сокращаться. Раньше новорожденных бывало до 300 тысяч, сейчас втрое меньше. Зарабатывали зверобои на таком промысле немного — 10–15 тысяч рублей. Конечно, при их нищенской жизни это тоже деньги, но уж очень кровавые.
— А что сейчас? Неужели живодерство продолжается?
— Вот уже несколько лет как промысел бельков запрещен. Московское отделение Международного союза защиты животных (IFAW), другие организации собрали около 300 тысяч подписей, в основном детей, которые писали, что убивать в родильном доме, в детском саду нельзя. Звезды эстрады, известные артисты летали на залежки, общались с детенышами тюленей, телевизионщики снимали, показывали… Проводились митинги. В конце концов, Владимир Путин подписал постановление правительства, запрещающее такой промысел. Спасибо ему…
Но надвигается новая беда — изменение климата. Становится теплее, лед тоньше, и в позапрошлом году около 30 тысяч детенышей потонуло. Другая проблема — ледоколы, которым ничего не стоит пройти по залежке. Так погибали еще многие сотни, если не тысячи детенышей. С моряками удалось быстро договориться. Один из начальников Морфлота, когда мы обсуждали эту проблему, вспомнил, как был капитаном на ледоколе, и сердце его разрывалось от жалости, когда он слышал крики гибнущих детенышей. Теперь есть инструкция капитанам: видишь залежку — обойди.
— Выходит, не только экологи хотят защищать братьев наших меньших?
— К счастью, да. И ситуация с гренландским тюленем показательна. Человек должен заботиться о сохранении всего живого — жить так, чтобы биоразнообразие не сокращалось. Тюлени питаются сайкой, сайку ест также треска, а теперь и люди, переловив крупных рыб, стали ловить сотни тысяч тонн сайки. Тюленям достается все меньше и меньше. Типичный пример недальновидности в управлении природными ресурсами. С тех пор как в середине прошлого века биомасса человечества (человек со всем его сельским и промысловым хозяйством) стала больше естественной биомассы на суше, ответственность за все биосферные процессы перешла к нам, человечеству. До этого момента естественные силы природы как-то стабилизировали те нарушения, которые человек вносил в природные экосистемы. Но мы эту ответственность до сих пор не осознали. И по-прежнему надеемся, что все будет, как в прошлом — природа исправит всё, что мы напортачили. Ситуация с беломорским тюленем демонстрирует, что так больше не будет.
— Отношение к природе — каким оно должно быть?
— Вроде бы базаровская дилемма: природа — храм или мастерская? Мичуринский ответ: «Не ждать милостей от природы! Взять их…». Для меня природа — это, конечно, храм. Но храм жизнеобеспечивающий. Его надо ремонтировать и поддерживать, выстраивать поведение человека в соответствии с законами природы. Тогда у нас еще есть шанс.
Беседу вела Наталия Лескова
Фото Андрея Афанасьева