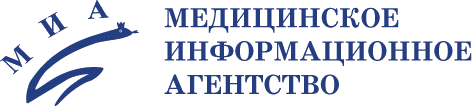27 января 2017 года исполнилось девять лет со дня смерти выдающегося российского трансплантолога, первым пересадившим сердце в нашей стране, одного из наших авторов, академика РАН В.И. Шумакова. О нем сегодня вспоминает его любимый ученик, академик М.Ш. Хубутия — директор Института скорой помощи им. Склифосовского, выдающийся хирург и человек интересной судьбы.
— Анзор Шалвович, все мы родом из детства. Вы родились и выросли в Абхазии. Ваше детство было счастливым?
— Я считаю, да. Наверное, иначе и не бывает.
— Скучаете по Абхазии?
— Я много лет тому назад оттуда уехал, поэтому сейчас не могу сказать, что скучаю. Вот когда уезжаю из Москвы хотя бы на неделю, меня неодолимо тянет назад.
— Выходит, вы стали москвичом?
— Не знаю, стал ли я москвичом, но без Москвы долго не могу. А вот в Абхазии не был более 20 лет.
— Я знаю, у вас брат был врачом.
— Да, он погиб во время войны в Абхазии. Снаряд попал в машину, на которой он перевозил раненых. Он занимался своим делом, ему было все равно, какая у людей национальность.
— А если к вам сейчас придет пациент абхаз?
— Какая разница? У нас лечатся люди разных национальностей. У меня много друзей в Абхазии, я вырос там и общаюсь с друзьями по сей день.
— Но для многих грузин абхазы стали врагами, и наоборот.
— Нет, для меня не может такого быть. У меня один из самых близких друзей — абхаз. Его сын недавно отсюда из моего кабинета вышел.
— Зачем он приходил?
— Меня навестить, от отца привет передать. Они мне родные люди.
— Получается, война вас никак не разделила?
— Не разделила. Конечно, огорчений много, брат похоронен там. И я не могу туда поехать, на могилу брата попасть. Бабушка, дедушка там похоронены, многие родственники, близкие. Но грузин туда не пускают, понимаете? Вот это, конечно, огорчает.
— Говорят, если человек родился и вырос на море, то его всегда туда тянет.
— Это верно. Море люблю.
— Черное?
— Любое. Но Черное — наверно, особенно. Я приезжаю на Черное море, не в Батуми, а в деревню ближе к центральной Грузии, и там могу часами сидеть на море и вспоминать молодость, детство. Да, действительно, это для меня важно.
— Помните ли вы тот момент, когда впервые подумали всерьез о профессии врача?
— Да, конечно, помню. Это было классе в 7-м, наверное, когда к нам в Сухуми приехал мой родственник, Бидзина Илларионович Хубутия, замечательный врач, доктор наук. И с ним был друг — известный хирург по фамилии Туркия. Это были два удивительных, интеллигентных человека. Они будто открыли мне другой мир. Тогда они работали в Третьем медицинском институте в Москве, который потом перевели в Рязань. На меня производило огромное впечатление их общение с больными. Люди как-то быстро узнали, что приехали два медицинских светила из России, и к ним устремился непрерывный поток страждущих. Со всеми болячками, по любым вопросом они шли и шли. А дядя всех принимал, никому не отказывал. Даже если этот недуг не имел к нему прямого отношения, он все равно выслушивал и давал добрые советы, подолгу с каждым человеком беседовал. У него хватало сил выслушать каждого, хотя он был на отдыхе. Это, конечно, впечатляло. Я всегда хотел стать таким человеком.
— И после окончания школы поехали учиться, но почему-то не в Рязань, поближе к дяде, а в Горький.
— Это решение было связано со спортом.
— Вы спортсмен?
— Да, достаточно серьезно в молодости занимался боксом. У нас в Сухуми тренировалась сборная Советского Союза, поскольку были благоприятные климатические условия. И вот там я познакомился с тренером из Нижнего Новгорода, который предложил приехать в этот город, учиться и продолжать тренировки. Так я дошел фактически до уровня мастера спорта.
— Почему не продолжили?
— На втором или третьем курсе я резко прекратил занятия, потому что со мной побеседовал профессор Борис Алексеевич Солопаев. Он очень хорошо ко мне относился и однажды усадил меня и по-отечески спросил: «Скажи, пожалуйста, ты хочешь быть врачом или профессиональным спортсменом?» Ну, я сказал — конечно, врачом! «Тогда бросай бокс и занимайся серьезно медициной». Потому что бокс, по его мнению, травмирует человека. Я его послушался.
— Бокс помог в жизни?
— Помог. В школе у нас дети с 5-6 класса курили, кто-то рано начинал выпивать. А я всего этого не мог, потому что в 6 часов вечера мне надо было на тренировку идти. Спорт организует, удерживает детей от улицы, от дурных привычек. Я знал: мне нельзя курить, иначе легкие будут слабые, и я не смогу выдерживать нагрузки. И поэтому никогда не прикасался к сигаретам.
— Давайте вспомним ваши студенческие годы, когда вы учились в горьковском медицинском институте. Какие преподаватели оказали на вас наибольшее влияние?
— Торакальный хирург профессор Кукаш, которому я всегда хотел подражать. Хирург, что называется, от Бога.
— А вы изначально решили стать хирургом?
— Я учился на педиатрическом факультете, по специальности педиатр. В институте я познакомился со своей будущей супругой. Скоро 50 лет, как мы вместе. Она тоже врач, педиатр. А по окончании института нас распределили в Таджикистан. Там я прошел специализацию у профессора Палатова, который приехал туда из Ленинграда и возглавил кафедру детской хирургии. В то время в Таджикистане министром здравоохранения республики был Саженин, русский человек. Когда мы приехали, совсем молодые, он на нас посмотрел, говорит: «Господи, куда же вас распределили!» Хотя в советское время было гораздо лучше, чем сейчас. И вот он подумал и говорит: «Ладно, поедете в Гиссарскую районную больницу, там главный врач — мой давний друг». Гиссарская долина находится недалеко от Душанбе и считается самой благополучной. Он при нас позвонил главврачу, сказал, что двое ребят хороших приехали из Горького, и вот, мол, «я тебе их посылаю».
Начали работать. Я быстро стал главным детским хирургом, потому что других специалистов не было в этой Гиссарской долине. А когда через три года мы собрались уезжать, меня позвали к министру. Он говорит: «Ты помнишь нашу первую встречу?» Я отвечаю — конечно, помню! «Так вот, — говорит, — ты должен замену себе подготовить. Еще год поработайте, и тогда уезжайте». Я подготовил за этот год даже двоих молодых хирургов, и тогда мы вернулись в Москву.
— Были какие-то случаи, которые вы до сих пор вспоминаете?
— Вот, например, интересный случай. Меня вызвали в отдаленную деревню Горная Ханака. В горы поехали на уазике «скорой помощи». Мне показали трехмесячного ребенка синюшного цвета. Он задыхался. Дело в том, что дети, когда у них закрыто дыхательное горло, не пытаются дышать, как взрослые. Они заглатывают воздух. То есть, он уже не дышал, только делал глотательные движения. При этом сердце еще работало. Я спросил, что с ребенком. Оказалось вот что. Они из молока готовят что-то типа нашего творога, это называется «катык», он насыпается в марлю. Марля висит, из неё жидкость вытекает, и масса становится жесткой. И вот они отламывают кусочек, чтобы ребенок не плакал, ему суют, и он сосет. У него этот кусочек прошел дальше и закрыл дыхательное горло. Ну, чем меньше знаешь, тем смелее. Я тогда молодой еще был, решение принял молниеносно. А порядки там своеобразные. Мусульманское государство, глухая деревня. На улице люди стоят с палками, и когда человек умирает, они должны его до захода солнца похоронить. Поэтому все уже ждали, когда его хоронить.
Я вышел к этим мужикам с палками и говорю: вот такая ситуация, ребенок погибает, но я могу его спасти, для этого мне нужно сделать маленькую операцию. Операция может ему и не помочь, может быть поздно. Но позвольте мне попробовать.
— Спрашивать надо было обязательно? Ведь уходило драгоценное время.
— Если бы я не спросил, меня могли бы убить. Это мне местный фельдшер подсказал. И я обратился к директору школы. Он тоже стоял среди этих мужиков. Он хорошо понимал русский и дал согласие. Говорит: «Да, мы про вас наслышаны, делайте, что надо». Не знаю, откуда они были наслышаны, я там еще года не отработал. Они меня звали русским хирургом. Раз приехал из России — русский. Для них нет другой нации. И вот я пришел с ребенком на руках в фельдшерский пункт, говорю фельдшеру: «Что у тебя есть, чтобы сделать трахеотомию?» — «Ничего нет».
— Даже скальпеля не было?
— Да откуда там скальпель! Были ножницы. Хорошо, что острые. Я сделал нижнюю трахеотомию — проткнул трахею ножницами, потом ее рассек, браншу вставил и открыл. Как только я это сделал, ребенок совершил первый глубокий вдох. Потом еще вдох, еще. У детей компенсаторные возможности гораздо больше, чем у взрослых. И он стал на глазах розоветь. А я стою и эту браншу держу. Понимаю, что теперь необходимо его везти в районную больницу. Но как? Надо какую-то трубку. Спрашиваю: «Трубка резиновая есть?» — «Есть». Это была газоотводная трубка для детей. Я помыл её под краном — и всё, вставил в трахею. Стерилизовать некогда было. Обвязал ниткой, чтобы она туда не улетела, и через эту трубку малыш стал дышать. Боялся, что в этой трубке кишечная палочка, и у него будет пневмония. Но решил — ладно, будем лечить. В больнице переставили трубку, а на третий день я её убрал. Конечно, антибиотики назначили. Но в то время пенициллин еле нашли. Пневмония, к счастью, не наступила. На седьмые сутки я отпустил ребенка домой. Это был мой первый тяжелый случай, который навсегда запомнился.
— Сейчас, наверное, тому ребенку уже за 40?
— Наверное, да. Сейчас, если бы мне сказали такому грудничку сделать трахеотомию ножницами, наверное, не согласился бы.
— Думаю, если бы ситуация была такой же, вы поступили бы точно так же.
— Ну, может быть. Был еще такой случай. У меня заведующий отделением был пожилой человек, хирург неплохой, но клиницист, как я теперь понимаю, так себе. И фельдшер была Урунова, сама русская, а замужем за таджиком. Пожилая, опытная женщина. Как-то она приходит и говорит: «Слушай, Анзор, Хамиджан Юсупович смотрел ребенка, тебя не позвал, домой его отпустил, а у меня душа болит. Похоже, там острый аппендицит. Поезжай к нему домой, проверь». И дает мне адрес. Я сел на «скорую» и поехал.
Дверь закрыта. Стучу — тишина. Так я чуть дверь не высадил. Соседи в окна стучали. Оказалось, ребенок был один дома, лег и уснул. А чтобы живот не болел, положил теплую грелку. Дело в том, что острое воспаление аппендикса дает болевой синдром, а вот когда он превращается в гнойный, образуется флегмона, и она перестает болеть. В этом коварство перитонита. У мальчика именно это и случилось. Идти сам он уже не мог. Я его отнес в машину и повез в больницу, скорее в операционную. Оказался флегмонозный аппендицит, ограниченный перитонит. Я его прооперировал, поставил дренажи. И как ни в чем не бывало, через неделю отпустили домой. Родители и бабушка с дедушкой были мне очень благодарны.
— Как вы относитесь к благодарности? Обязательно, чтобы человек «спасибо» сказал?
— Конечно, приятно, когда говорят «спасибо». Но для меня главное — видеть, как больной уходит на своих ногах. Особенно когда я пересадки начал делать. Часто я пересаживаю печень очень тяжелым больным в терминальной стадии заболевания, и они выздоравливают. Вы знаете, иногда они уходят, и не то что «спасибо» — «до свидания» не говорят. Приходишь — койка пустая. А где же пациент? А выписали. Ушла. Ну как она, все нормально? Все нормально. Ну и прекрасно. Это выше любой благодарности. Хотя, конечно, если бы она зашла и сказала — до свидания, доктор, у меня все хорошо, — я бы порадовался.
Недавно оперировал девушку с фульминантным течением гепатита. Никто в нашей стране за неё не брался. Она погибала в инфекционной больнице, была уже на том свете фактически. Мне все говорили — не берись, это безнадежно. Но я принял решение за минуту. У неё двое детей, она мать-одиночка, и это меня заставило решиться.
У каждого хирурга, как говорят, есть свое кладбище. И я это всегда помню. Но она была уже в коме. И я взялся ее оперировать. Какое-то чутье появляется с годами, понимание, когда надо браться, а когда нет. В общем, вытащили мы её. Она ушла и не попрощалась. Но зато я знаю, что у этих детей есть мама.
— Насколько для вас вообще важен личный момент, интуиция?
— Очень важен. Потому что в данном случае пациентку оперировать уже было поздно с клинической точки зрения. И таких случаев много. Я пошел на риск, и, слава Богу, всё закончилось хорошо.
— А как дела у той девушки-журналиста из Краснодара, которая в свое время боролась против трансплантологии, а потом сама попала к вам на пересадку сердца?
— У неё всё хорошо. После пересадки она родила. Стала первой женщиной в нашей стране с донорским сердцем, родившей ребенка. Сейчас появились еще несколько таких женщин. Ребенку уже года четыре. У меня даже фотография есть. Потом позвонила, сказала: «Анзор Шалвович, это ваша заслуга».
— Она перестала выступать против трансплантологии?
— Сейчас, наоборот, она пропагандирует эту науку. Понимаете, она полтора года ждала донорский орган. Худела, плохо себя чувствовала, фактически уходила. А в те годы журналисты считали свои долгом «наезжать» на трансплантологию. Люди мало что знали и выдумывали такие истории, что просто кровь в жилах стыла. Помню, по телевизору выступал какой-то сумасшедший в милицейской форме, чуть ли не майор, говорил, что его поймали, засунули в «скорую помощь», поместили в какой-то подвал, и там он услышал разговор, что его должны на органы разобрать. Он рассказывал с экрана, как руками вырыл подземный ход, прямо граф Монте-Кристо, и чудом выбрался. И ведь многие в этот бред верили! Слава Богу, сейчас этого поубавилось, хотя отголоски еще раздаются.
— А что нового у того чемпиона мира по бодибилдингу, которого вы спасли?
— Друзья отвезли его сначала в Германию, потом в Израиль. И там отказали — поздно. Цирроз печени. Дело в том, что он длительно принимал анаболические гормоны. Вместе с мышцами росла и печень. Я такую печень в жизни не видел. Она весила 8,5 кг. Печень должна быть 900 граммов, максимум — 1 кг. У него же печень занимала весь живот и уже не работала. В Израиле сказали, что ему осталось жить три недели. И в таком состоянии его привезли ко мне. Парню 27 лет, и эта операция — его последний шанс. Помню, он мне говорит: «Мне лучше умереть на операционном столе, чем каждую ночь ждать, что ко мне постучится смерть». На меня это колоссальное впечатление произвело. Прошло семь лет. Мы были у него на свадьбе. А нынешним летом, 17 июня, у него родился сын. Богатырь, между прочим.
— Это же прямо в день вашего рождения? Видимо, специально такой подарок для вас подготовили!
— Не иначе! Знаете, много таких историй, их можно бесконечно рассказывать. Но самое главное событие в моей жизни — то, что в Москве я попал к Валерию Ивановичу Шумакову.
— Когда приехали в ординатуру?
— В клинической ординатуре я проучился два года. Раньше в России было принято считать, что грузины все очень богатые люди. А я как раз не относился к этой категории. У нас уже было двое детей. Очень нуждались в деньгах. Я пошел в ординатуру, жена — участковым педиатром. И мне приходилось очень много дежурить. Что там скрывать — находились сыновья богатых людей, которые не хотели дежурить. Они мне продавали дежурства. Я за всех дежурил. А работал я в сердечной хирургии, а тогда АИК (аппарат искусственного кровообращения) были несовершенными, не то что сейчас. И если аппарат работал более 1,5 часов, то начинался гемолиз крови — разрушались эритроциты, нарушалось свертывание, почки останавливались. Приходилось рану опять открывать и искать источник кровотечения. Так как мне приходилось до 15–16 раз в месяц дежурить, то я всегда оказывался под рукой: меня звали на самые сложные манипуляции. И мою фамилию всегда утром называли на утренней конференции. Шумаков не знал, кто я такой, мало ли ординаторов у него. Но фамилия в голове застряла. И вот в один прекрасный момент спрашивает: «А кто такой Хубутия? Вы можете мне его показать?» Я сзади сижу со всей молодежью, и тут меня толкают: «Слушай, тебя Шумаков зовёт!» Я встал, вышел. Он на меня: «Ты что, здесь живешь, что ли?» Я говорю — нет, Валерий Иванович. «А почему каждый день дежуришь?» Я говорю — ну, не каждый день, но почти через день. «А почему это у тебя так много дежурств?» Ну, я и сказал, что у меня материальные проблемы, вот и работаю. Засмеялся, говорит: «Первый раз вижу работающего по-настоящему грузина!»
Мы были тогда на базе 52-й больницы, тогда не было еще отдельного института. И вот после ординатуры мне главврач предложил должность заведующего отделением хирургии. Для молодого хирурга это звучало очень заманчиво. Конечно, я согласился. И вдруг меня вызывают к Валерию Ивановичу. Он говорит: «У тебя заканчивается ординатура, что ли?» Говорю — да. А я начал кандидатскую писать к этому времени.
— На какую тему?
— Я тогда начал ставить кардиостимуляторы. У меня был руководитель — Евгений Васильевич Колпаков, и мы вместе это дело осваивали. Эта тема и стала основой кандидатской — «Хирургическое лечение брадиаритмии сердца». Так вот, Шумаков говорит: «Слушай, насколько я знаю, ты же там еще и науку делаешь? Диссертацию пишешь?» Я подтверждаю. Тогда он предложил мне остаться в институте.
Я ушам своим не верил. Спрашиваю: а как я могу остаться? «Ты знаешь, — отвечает, — у меня сейчас ставок нет, но есть место в аспирантуре, давай сдавай кандидатский минимум, пока ты будешь диссертацию писать, появится ставка». Так я остался. Через два года защитился, и тут мне дали ставку — врач-лаборант с высшим образованием. Потом был младший научный сотрудник, позже старший.
— Но, наверное, по деньгам это была потеря по сравнению с заведующим хирургией?
— Да, потеря была заметная. Но зато это дорога в большую науку и хирургию! Я ходил на проводимые Шумаковым эксперименты, пересадки. Это была большая честь — возможность работать с ним.
— А жена не протестовала?
— Никогда. Она сама очень много работала. Колоссальное количество дежурств брала. Не только работала педиатром на участке, но и дежурила по неотложной медицине. Я тоже редко дома ночевал. Но она всегда мне говорила: если это твое, делай.
— Значит, вы дома не ночевали, она все время на работе. А дети с кем?
— Жена утром их собирала — в садик, потом в школу. Благо школа была рядом с домом. С работы бежала, забирала детей, еду разогревала — потом уходила на дежурство. Да, так и выросли.
— А как вы стали заместителем Шумакова?
— Тогда заместителем Шумакова был академик Глеб Михайлович Соловьев. Потом он ушел, ему дали кафедру в Первом мединституте. И вдруг меня приглашает Валерий Иванович в директорат. Тогда на директорате или с работы выгоняли, или повышение давали. Когда мне секретарь позвонила, я испугался, подумал, что кто-то написал на меня «телегу», и теперь меня выгонят. Я тогда уже старшим научным сотрудником был, кандидатом наук.
Зашел. Там сидят профессора, члены директората, я стою у дверей тихо, молчу. Шумаков говорит: «Что встал там, пройди сюда!» Прошел. Все на меня уставились. «Ты знаешь, что у меня Глеб Михайлович Соловьев ушел?» — «Знаю». — «Вот мы тут сейчас долго думали, и я твою кандидатуру предложил, ученые поддержали».
Я на самом деле думал, что упаду, сознание потеряю. Ну какой я зам. директора? Я же в операционной все время. Это была моя жизнь. А тут, думаю, надо будет заниматься административными делами, а как же операционная? Пока я так думаю, Шумаков говорит: «Ну, ты меня понял?» Молчу. «Я тебя спрашиваю — ты меня понял?» Я говорю: «Да, Валерий Иванович, но можно не меня?» Он удивился, говорит: «Как это?» Я начинаю объяснять: дескать, все ж таки я в хирургию пришел, хочу быть хирургом. «Ты что, совсем спятил, что ли? Ты будешь зам. по клинике, оперируй, сколько тебе влезет! Всё — вопрос решен, иди! Завтра в двенадцать принесешь заявление».
Я иду и думаю: да как же они все, доктора наук, академики, будут мне, мальчишке, подчиняться? Не укладывалось всё это у меня в голове.
Всю ночь не спал. Утром пришел на работу. Всё тихо. Думаю — может, пронесло? Забыл уже? Но ровно в двенадцать меня Галина Николаевна, секретарь, вызывает к директору. Я пришел. «Ну, где заявление?» Я говорю: «Валерий Иванович, я прошу, можно не меня?» «Так вот, — говорит, — тебе два варианта. Или ты пишешь заявление мне в замы — или уходишь». Ну, как я уйду? Так я стал заместителем Шумакова и 21 год был им.
— Каким человеком был Шумаков?
— Он был очень доброжелательный. Это казалось, что он грубоватый, резкий, жесткий. Но не было человека добрее. Он со мной возился, как с родным. Конечно, святым он не был. Мог ругаться, горячиться. Но на него никогда никто не обижался. К Валерию Ивановичу всегда можно было прийти, поговорить, рассказать, объяснить. Он всегда протягивал руку помощи. Он был удивительный человек. Гений хирургии. Учителя никогда не обучают своих учеников, не говорят: вот так ты должен шить, так завязать. Ты учишься у него сам. Я ассистировал ему, помогал в экспериментах, в клинике. Мы стали очень близкими людьми.
— Скажите, а на самой первой операции по пересадке сердца, которую он сделал, вы присутствовали?
— Нет. Я на второй был. Первой была Шура Шалькова, сибирячка. А вторым — тоже сибиряк, здоровый такой мужик. И потом я на всех операциях был. Отвечал за подбор донора. А это очень важный, ответственный момент. Несколько раз его подводили, и он мне дал ЦУ — будешь, мол, сам подбирать. Он мне абсолютно доверял.
— Однако же вы его сильно подвели с той девушкой — журналистом из Краснодара, когда для операции было подготовлено донорское сердце стокиллограммового мужчины, которое по размеру совсем не подходило.
— Да, это был один-единственный раз, когда я скрыл от учителя правду. Там была безвыходная ситуация. Он мне говорит: «И что ты сделал? Как я это буду шить? Давай, делай сам!» А я отвечаю: «Валерий Иванович, на то вы и великий Шумаков!» Очень он ругался. Я даже думал, что он меня огреет чем-нибудь. Понимаете, есть стандарты: если вес донора больше 20%, то пересаживать нельзя. Несоответствие будет. Одно дело, если человек 60 кг весит — у него вот такой толщины аорта, а если 120 кг — совсем другой. Их соединить вместе очень тяжело и практически невозможно. Но другого сердца не было. Я принес это. И тогда он впервые сделал такого рода операцию. Тоненькую артерию разрезал с двух сторон, открыл ее, как лепесток, и вшил эту толстую. Операция прошла хорошо, и больше он мне этого не припоминал. У него было ко мне отеческое отношение.
— Как сложилась судьба людей, которым были сделаны первые пересадки сердца?
— Шура Шалькова прожила 11 лет. Вышла замуж. Тогда иммунносупрессию получать в Сибири было нереально. А заместителем мэра Москвы была Людмила Ивановна Швецова, уникальный, удивительный человек. И мы обратились к ней, рассказали про Шалькову, познакомили с ней. И она ей помогла получить квартиру рядом с нашим институтом. И вот спустя 10–11 лет оказалось, что она втихаря перестала принимать таблетки. Посчитала, что это ей уже не нужно. К нам ее привезли уже погибающей. Мы долго не могли понять, что случилось. А перед смертью она сказала, в чем дело. Точнее, муж принес горсть таблеток, которые мы ей давали, а она не пила. Год не принимала.
— А тот мужчина, сибиряк? Ему тоже квартиру предоставили?
— Нет, ему не предоставили. Он был строитель, шестеро дочерей. Ростом под два метра, здоровый такой, крепкий. Но любитель выпить. Помню, уже перед выпиской зашел в бокс — а там сидит его отец. И вижу такую картину. Стоит бутылка, как они потом сказали, самогонки, огурцы соленые, еще какая-то закуска. Сидят вдвоем и выпивают. Достаточно много уже выпили.
— Вы ведь не берете на пересадку пьющих?
— Мы не берем страдающих алкоголизмом. У него алкоголизма не было, он просто выпивал. Но я был в шоке, конечно. Утром Валерию Ивановичу сказал. «Он что, — говорит, — совсем с ума сошел?» Ну, поговорили с ним, что нельзя.
Через два года его привезли к нам в тяжелом состоянии на военном самолете с двухсторонним воспалением легких. Стали лечить. Спрашиваю: что с тобой случилось? Он говорит: «Мы пошли в баню с мужиками, выпили. Они говорят — ты теперь не сможешь в снегу валяться после парной! Ну, я им показал, что могу». Сколько он там кувыркался, никто не знает, заработал пневмонию. Вытащили его из этого состояния, вылечили. Уехал.
Еще через год опять привозят. Оказывается, он на спор выпил из трехлитровой банки самогонки. У него острый гепатит тяжелый, токсический. Печень перестала функционировать. А мы тогда печень не пересаживали. И он умер.
— Таких людей есть смысл вытаскивать?
— Вы знаете, он был мужик сильный, верил в себя, и мы в него верили.
— Таких людей очень много — им от природы дано всё, но они это не ценят, не берегут.
— Сейчас, конечно, мы более тщательно собираем анамнез. Если человек страдает алкоголизмом или наркоманией, ему нельзя делать пересадку, которую можно сделать другим ожидающим ее годами пациентам. Поэтому я категорически запрещаю делать операцию по пересадке людям, которые пьют или страдают тяжелыми формами зависимостей.
— Как думаете, наступит момент, когда не нужны будут доноры жизненно важных органов, и мы перейдем на клеточные технологии?
— Я об этом много думаю. Мы с Шумаковым начинали работы по выращиванию трансгенных свиней.
— У вас ведь даже есть лаборатория таких животных?
— У нас есть лаборатории клеточных технологий. Мы очень много проводим исследований в этом направлении. Недалеко то время, когда вырастят трансгенную свинью, органы которой будут пригодны для пересадки человеку. В принципе, мы в одном шаге от результата. Но пересадки пока не разрешены, потому что никто не знает, какие заболевания могут эти свиньи человечеству подарить.
— А если выращивать ткани и органы из собственных стволовых клеток? Ведь такие работы тоже активно ведутся во всем мире.
— Да, выращивают из клеток печень, легкие. Есть сообщения, что в Америке у мышей уже функционирует такая печень. Но это более долгий путь, и это случится не скоро. Но обязательно случится.
— У вас на столе лежит искусственное сердце, разработанное еще вашим учителем Шумаковым. Оно работает?
— Сейчас это уже музейный экспонат. Мы таким прибором спасли человека, и он 52 дня жил без сердца. Потом сделали ему трансплантацию. Позже стали выпускать другие приборы, которые имплантируются в человека. Вот с этим аппаратом, который у меня в руках, пациент прожил два года. Потом я пересадил ему донорское сердце. Сейчас у него всё благополучно, он на велосипеде ездит, в бассейне плавает, бегает.
— Вот уже десять лет вы возглавляете Институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Когда вам предложили эту должность, тоже сомневались?
— Сомневался. У Шумакова в Институте трансплантологии и искусственных органов я уже всех знал, все знали меня, устоявшийся коллектив. А здесь… Незнакомое место, новый коллектив, очень большой — в Институте работало более трех тысяч человек. Тысяча с лишним коек, огромное хозяйство. И я думал: как же всем этим управлять? Конечно, у меня за плечами был 21 год административной и хирургической работы. Но всё равно были сомнения. Департаментом здравоохранения в то время руководил Андрей Петрович Сельцовский. И он меня пристыдил: как же можно отказаться, ты должен согласиться! Я уже, дескать, и с Лужковым поговорил. В общем, пришлось согласиться.
— Вы же создали новые лаборатории, отделы.
— Да, это так. И операции стали гораздо сложнее, технологичнее. Наряду с экстренными операциями идут плановые. Трансплантология — это та отрасль, где задействованы все врачи — и пульмонологи, и торакальные, и полостные хирурги. Это колоссальная, многоуровневая наука. На каждой утренней конференции обсуждаются наши больные, результаты их лечения. И всё это, безусловно, принесло институту новое развитие и известность.
— Какие планы у института? Что вы еще задумали?
— Я хочу, чтобы на месте старого клинического здания было построено новое. Старое изжило себя и уже не отвечает всем современным требованиям.
— Как интересно: старому зданию всего лет сорок, а оно уже изжило себя. А это здание, где мы с вами беседуем, имеет двухсотлетнюю историю, но перестраивать его вы не хотите.
— Странноприимный дом графа Шереметева — это памятник архитектуры, наша гордость. Как его разрушать? Наоборот, мы его бережно храним. Конечно, эту функцию здание давно уже не выполняет. Ведь здесь, где мы с вами сейчас беседуем, была огромная палата, здесь лежало 40 человек. Сейчас это административное здание. Однако важно, что оно сохранило функции лечебного учреждения, каким и было задумано графом Шереметевым. Оно по-прежнему принимает скоропомощных больных, любых, независимо от возраста, национальности, благосостояния.
Храм Живоначальной Троицы в странноприимном доме графа Н.П. Шереметева - Институте скорой помощи им. Склифосовского
Я очень дорожу историей Шереметьевской больницы. У нас даже музей есть. Историческое здание было реставрировано, и в храме Живоначальной Троицы обнаружили уникальные фрески, которые, к счастью, пролетариат не соскреб, а замазал известью. Когда все это сняли, увидели уникальную роспись. Это достояние России, и это должен знать и видеть каждый. История странноприимного дома — это история человеческого отношения друг к другу, история любви. Это история меценатства, которое, хочется верить, еще возродится.
— Каждый год он вносил на содержание больницы огромные по тем временам деньги. Где сейчас все эти меценаты, где Мамонтов и Морозов, которые чудеса делали для людей? Нет их теперь. А миллиарды где-то есть.
— Что планируется построить на месте старого клинического корпуса?
— Планируется корпус, который не портил бы нынешний ландшафт, и в котором будут более комфортные условия для пациентов.
— Давайте поговорим о людях, которые здесь работают. Вы ими довольны?
— Наш коллектив уникален. Это люди, которые выросли здесь в профессиональном плане, окончили ординатуру, аспирантуру, стали частью института. Это специалисты с большой буквы, которые растят новые молодые кадры, обучающиеся у нас в ординатуре. Здесь, для работы в институте, мы оставляем лучших выпускников.
— У вас есть преемники, которым доверяете полностью, как вам доверял Шумаков?
— Да, есть такие. Алексей Пинчук, Мурад Новрузбеков, Евгений Тарабрин — талантливые, замечательные ребята. Они уже сегодня самостоятельные хирурги. Но у меня с ними идут «военные действия», я их все время ругаю — когда они наконец докторскую диссертацию напишут? Тарабрину я запретил ходить в операционную, пока не закончит.
— А вы сами быстро написали докторскую или вас тоже ругали?
— Шумаков меня не подгонял. Мне было стыдно быть заместителем директора института, будучи кандидатом наук. А потом Валерий Иванович меня позвал и сказал: «Я хотел бы, чтобы мой ученик жизнь отдал пересадке сердца и написал первую диссертацию в России на эту тему». Учитель сказал — это закон. И я сел за работу. В России это действительно была первая такая работа. Она так и называется: «Первый клинический опыт трансплантации сердца в России». А недавно я издал первый в стране учебник по трансплантологии. На обложку мы поставили репродукцию средневековой фрески, где христианские святые и врачи Косьма и Дамиан, жившие две тысячи с лишним лет назад, приживляют воину донорскую ногу взамен утерянной. Выходит, первые опыты трансплантации начинались многие столетия назад!
Академик М.Ш. Хубутия рассказывает и показывает, как проходит операция по пересадке сердца
— Анзор Шалвович, многие считают, что самые сложные операции лучше делать за рубежом. Если ли случаи, когда это так?
— Нет. У нас смертность при пересадке почек — 0. Практически ее нет. 2% при пересадке печени. В Германии до 7%. Многие люди, которым там отказывали, получают помощь здесь и живут долго и счастливо.
— Может быть, там с донорами лучше?
— Нет, что вы. Там донорские органы не пересаживают иностранцу. Я оперировал одного богатого россиянина, который пять лет наблюдался во Франции. Платил баснословные деньги в клинике, и в конце концов ему сказали, что не могут пересадить ему печень. И он приехал к нам, встал в лист ожидания. Когда подошло время, он был уже в тяжелом состоянии, я ему пересадил печень, он жив, здоров. Звонит время от времени, благодарит, говорит: «Какой же я был идиот, сколько же я денег потратил в этой Франции зря!»
Конечно, проблема донорства существует во всем мире. Лучше всего с этим в Испании. Совсем неплохо, кстати, в соседней Белоруссии. А знаете почему? Потому что к этому вопросу очень серьезно относится президент Лукашенко. Сказал, что если при появлении потенциальных доноров не будет сообщено трансплантологам, то к этим больницам будут применены самые жесткие меры. Все. Так во всем мире должно быть. Если государство «лицом не повернется», проблема никогда не решится.
— А у нас что?
— Государство нам руки не связывает, церковь тоже относится лояльно. Но вот правильной пропаганды не хватает. Если бы представители высшей власти где-нибудь говорили о том, что трансплантология — это благо, было бы замечательно. Мы, врачи, со своей стороны стараемся говорить об этом регулярно.
Как-то мы с Шумаковым были в Италии, и Валерий Иванович был приглашен к Папе Римскому. И вот он папу Римского спрашивает, как он относится к трансплантации органов и донорству. И тот ответил, что человек, который при жизни дает согласие стать донором после смерти, совершает микропоступок Христа. Это сказал папа Римский! Валерий Иванович был потрясен.
— Давно хочу спросить про ваше двойное имя. Как это получилось?
— Меня назвали Анзором, когда я родился. А когда повели крестить, выяснилось, что нет такого православного имени, и меня нарекли Могели. Я вырос Анзором, в школе меня так все звали. А когда получал паспорт, взял своё свидетельство о рождении, а там — Могели. Мне говорят: «Ты что же, не знаешь своего имени?» Так и вышло, что по документам я Могели, но все зовут меня Анзором. Хотя я на оба имени откликаюсь.
Я тут где-то прочитал, что я — еврей, и зовут меня Миша. Вот чудаки! Всё перепутали. Но даже если бы я был еврей — что тут плохого? Я был в гостях в семье евреев, и мне подарили за то, что я как врач много евреев спас, кипу и накидку. Сказали: вы настоящий еврей! Приятно.
— Вижу, у вас в шкафу бюстик Гиппократа и множество икон…
— Это всё подарки. Одну из икон подарила Людмила Швецова. Она специально для меня её заказывала. У нас были очень добрые отношения. Вообще у меня семья верующая, православная. И я крест всегда ношу. Не на цепи — это неудобно, шею трет, а на кожаном шнурке. Это тот самый крест, который мне мама в детстве на шею повесила. Никогда его не менял.
— Вы чувствуете, что кто-то свыше вам помогает?
— Думаю, да. У меня много раз были в операционных безвыходные ситуации, когда непонятно, что делать. И вдруг выход находится, будто сам собой.
— А Шумаков вам помогает?
— Да, я с ним советуюсь.
— Во время нашего разговора вы часто смотрите на его портрет.
— Вы знаете, я каждый год хожу на его могилу.
— На Новодевичье?
— Да. Я всегда его поминаю. 27 января — очередной день памяти. У нас в институте трудится множество его последователей, людей, которые достигли всего благодаря тому, что он когда-то начинал эту работу. Я их обязательно собираю у себя, мы говорим о Валерии Ивановиче. И в день его рождения всегда за здравие его семьи выпиваю, а 27-го иду в церковь, заказываю службу, ставлю свечку, потом собираю тех, кто его помнит. Это обязательный ритуал.
— Зачем это нужно?
— Память дает чувство, что и ты не будешь забыт через какое-то время. А если этому молодых не учить, не показывать, ничего человеческого не останется. Сын мать не будет помнить, ученик — учителя. Как же тогда жить, зачем? Чтобы вкусно есть и сладко спать? Вот мы спасаем человеческие жизни, кому-то даем второй, третий шанс. Это важно. Но не менее важно помнить тех, кто ушел от нас навсегда. Мы не боги и не можем отменить смерть. А вот память — это то, что сильнее смерти.
Беседу вела Наталия Лескова
Фото Андрея Афанасьева