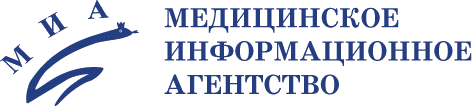«Большое счастье — возможность помогать пациентам, состояние которых ранее считалось безнадежным», — любит говорить академик РАН Е.Л. Насонов. А потом добавляет: к сожалению, воплотить эту возможность получается не всегда и не в том объеме, в каком это необходимо. Что представляет собой современная наука ревматология, с чего она начиналась и что мешает ей сегодня помогать всем без исключения нуждающимся, — наш разговор с президентом Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России», главным внештатным специалистом-ревматологом Минздрава РФ, президентом Лиги Евразийских ревматологов (LEAR), научным руководителем Института ревматологии РАН, академиком РАН, профессором Евгением Насоновым.
— Евгений Львович, в следующем году исполняется 60 лет Институту ревматологии РАН. Есть ли направления, где вы стали первыми?
— Да, таких направлений немало. Еще в 80-е годы прошлого века в стенах Института стало функционировать первое в стране ревмортопедическое отделение, где начали выполняться сложнейшие операции на суставах. Многих лишенных подвижности больных это вернуло к полноценной жизни. В настоящее время через это отделение Института проходит за год более тысячи больных. Здесь с успехом проводятся уникальные операции, включая высокотехнологичные методы эндопротезирования суставов. Многие годы в институте изучается роль микробных и иных возбудителей в развитии ревматических заболеваний. Проходят международные клинические испытания и широко применяются принципиально новые генно-инженерные биологические препараты, весьма эффективные при ранее неизлечимых заболеваниях — в первую очередь, анкилозирующем спондилите, или болезни Бехтерева, когда поражается преимущественно суставы позвоночника. Применение этих препаратов позволяет ставить ранее недостижимую задачу — получение стойкой ремиссии или даже выздоровления при многих тяжелых прогрессирующих болезнях суставов.
— Ваша мама Валентина Александровна Насонова, имя которой сегодня носит Институт ревматологии РАН, — одна из первых сотрудников, проработавшая здесь с момента основания в 1958 году и до конца своей жизни. Я видела фото, где она на строительной площадке в каске. Она что же, и на стройке поработала?
— Да, мы называли её прорабом. Тогда было два строительства — нашего института и Центра психического здоровья. И отвечала за возведение этих двух медицинских учреждений Валентина Александровна Насонова. Когда Институт открылся, она стала научным сотрудником, а с 1970-го года — директором и возглавляла его более 30 лет. В следующем году, помимо юбилея института, у нас еще два события. Маленький юбилей — мне исполняется 70 лет, и большой, грандиозный — 95 со дня рождения мамы…
— Насколько я понимаю, не было бы в нашей стране той науки ревматологии, какой она является сейчас, если бы не Валентина Александровна. Это так?
— Думаю, вы правы. Очень много зависит от конкретного человека и от того, в каком направлении он поведет за собой людей. Она всегда была очень сильным терапевтом, занимавшимся «героической» медициной. Это раздел медицины, где ведут наблюдения за тяжелыми пациентами, состояние которых может привести к смерти. Обычно это кардиология, онкология, тяжелые инфекции. А наши ревматические больные не рассматриваются с этой точки зрения. Обычно это хроники, инвалиды. Когда Валентина Александровна пришла сюда работать, сразу начала заниматься самыми тяжелыми, смертельными больными, в первую очередь системной красной волчанкой, и это заложило основы нашего Института.
Это потом уже возникли такие классические проблемы ревматологии, как остеоартроз, ревматоидный артрит, и, если бы на её месте оказался ученый с другим кругом интересов, скорее всего Институт имел бы другой облик. Надеюсь, это бесстрашие перед тяжелыми больными мы сохранили. Мы одни из немногих в стране, кто их лечит и часто с очень хорошими результатами. Мы готовы брать на себя ответственность и лечить таких пациентов, от которых отказались в других медицинских учреждения.
— Читала, что вы не хотели быть ревматологом, чтобы никто не сравнивал вас с великой мамой. Это правда?
— И да, и нет. У нас в семье всегда существовали жесткие правила. Мы в шутку говорили: может быть, сын сталевара и может стать сталеваром, но сын ревматолога не может стать ревматологом. Поэтому я лет 20–25 пытался «ускользнуть» от этой специальности. Я был гастроэнтерологом, нефрологом, лабораторным работником, иммунологом, пока судьба не привела меня в Институт ревматологии. На тот момент я был уже членом-корреспондентом, состоявшимся специалистом. Иначе и быть не могло. Валентина Александровна никогда бы не поддержала, не докажи я свою способность работать самостоятельно.
— Не жалеете о выбранном пути?
— Нисколько. Всё это дало мне возможность увидеть изнутри многие врачебные специальности, а это для моей профессии важно. Ревматология в наше время аккумулирует лучшие достижения других областей медицины, поэтому мне было легче всё это понять и усвоить. Особенно ценно то, что я всегда увлекался иммунологией и другими заболеваниями, которые встречаются при ревматических болезнях. А в основе этих болезней лежат нарушения в работе иммунной системы. Так что всё тесно переплетено и взаимосвязано. Считаю, что счастливая звезда провела меня по жизни и, в конце концов, привела в самую интересную специальность — ревматологию.
— А то, что вы пошли в медицину, наверняка было с детства предопределено?
— Нет, и здесь были варианты. Сначала я не хотел быть врачом. Увлекался футболом и собирался поступать в Институт физкультуры. Потом, уже класса с девятого, мечтал об Институте международных отношений. Тогда это было очень престижно. Но «победила» всё же медицина.
В школе я всегда интересовался биологией. Но настоящий, фундаментальный интерес к этой науке пробудил во мне молодой человек, ученый, как я теперь понимаю, который подрабатывал тем, что готовил школьников к поступлению в институт. Он мне открыл новую биологию, которая показалась мне невероятно интересной. Именно он впервые познакомил меня с основами генетики.
Хочу напомнить, что это был период, когда у нас в этой науке превалировал Лысенко. Когда я поступил на первый курс, первые полгода мы учились по учебнику Лысенко, а вторые — уже по Гофману—Кадочникову, где перед нами совершенно неожиданно стали открываться глубины генетики, причем она уже не бичевалась как лженаука, а называлась самой настоящей и весьма перспективной наукой.
А уже на третьем курсе я влюбился в иммунологию. Надо сказать, ревматические заболевания — самые яркие с точки зрения иммунной системы, так что привел меня в ревматологию именно интерес к иммунологическим механизмам развития болезней.
— Иммунология — до сих пор во многом закрытая книга. Наверное, всех её тайн мы никогда не разгадаем. Удалось ли вам что-то новое в ней понять?
— Сейчас в иммунологии наблюдается колоссальный прогресс. Я бы даже сказал, что он определяет медицину 21 века. Недаром сейчас решается на самом высоком уровне, кто будет у нас президентом медицинского отделения Академии наук. Очень серьезно обсуждается фигура академика Макарова, директора Института молекулярной биологии им. Энгельгарда. А знаете почему? Сейчас все понимают, что если 20 век был веком физиков, то 21-й — век биологов. Одна из важнейших задач этой науки граничит с самой природой человека. Все мы хотим жить долго и не болеть. Как говорится, все хотят жить долго, но никто не хочет быть старым. Так вот, сейчас биологи, вполне вероятно, создадут возможность жить до 100–120 лет. И в этом отношении иммунология — это квинтэссенция современной биологии. Все нарушения в её работе определяют продолжительность жизни. Поэтому — да, много загадок, но есть и большой прогресс.
А если говорить узко, по нашим заболеваниям... Продолжительность жизни у тяжелых больных, которые раньше довольно быстро умирали, как при тяжелых гематологических и онкологических заболеваниях, сейчас существенно выросла. Они могут жить годами и десятилетиями. И качество жизни очень высокое. Я считаю, что всё это благодаря успехам иммунологии.
Е.Л. Насонов и В.А. Насонова на конгрессе ревматологов
— В свое время мы с вами говорили о революциях в здравоохранении, связанных с открытием асептиков и антисептиков, затем антибиотиков… Такие революции связаны и с разработкой препаратов при ревматических заболеваниях. Что это за препараты?
— Ревматические заболевания насчитывают более 100 нозологических форм и занимают третье место по инвалидизации после кардиологических заболеваний и онкологии. Только по ревматоидному артриту ежегодно инвалидность получают 80 тыс. больных, половина из них относится к наиболее дееспособному возрасту: мужчины — до 49, женщины — до 44 лет. А число инвалидов среди детей с ревматическими заболеваниями с 2000 г. увеличилось на 24%.
Существенные сдвиги в лечении ревматоидного артрита связаны с появлением генно-инженерных биологических препаратов, которые целенаправленно воздействуют на различные мишени — клетки и рецепторы, ведущие к развитию воспалительных процессов. В этом ряду принципиально новый генно-инженерный биологический препарат тоцилизумаб (Актемра) стал настоящим прорывом в медицине. Тоцилизумаб блокирует рецептор важнейшего цитокина — интерлейкина 6, являющегося ведущим фактором развития целого ряда воспалительных болезней, и тем самым, способен быстро нейтрализовать симптомы и признаки заболевания. Появление таких препаратов — результат второй революции в ревматологии.
— А первая революция?
— Могу назвать точную дату — 15 сентября 1948 года, когда были впервые применены глюкокортикоидные гормоны — искусственные гормоны коры надпочечников, с помощью которых врачи научились лечить воспалительный процесс при ревматических заболеваниях. Глюкокортикоиды и некоторые другие противовоспалительные препараты позволили эффективно бороться с ревматическими заболеваниями в 20 веке. Наша теперешняя задача — победить ревматоидный артрит и другие болезни так же успешно, как это удалось проделать с ревматизмом (ревматическая лихорадка) 60 лет назад. И нам это по плечу. К примеру, более 90% пациентов, получивших новое лечение, отмечают видимый эффект в течение первых месяцев. У 30% пациентов за шесть месяцев терапии уменьшаются признаки болезни, а к концу первого года — уже у каждого второго. В ряде случаев результатом становится полное восстановление трудоспособности. Обе эти революции в ревматологии по значимости сопоставимы с открытием структуры ДНК в 1953 году и первым полетом человека в космос в 1961-м. Ведь речь идет о спасении миллионов жизней, а это не менее важно, чем приоткрыть тайны генома или заглянуть в отдаленные уголки Вселенной…
На конференции ревматологов
— Звучит впечатляюще.
— Но хотелось бы сказать вот еще о чем. Как это ни парадоксально, оказалось, что совершенно бесценен уникальный опыт, накопленный в Советском Союзе, по оказанию специализированной помощи населению — в том числе, в ревматологии. Ведь кардиология как специальность и как система оказания специализированной помощи стала у нас развиваться позже, чем ревматология. В это трудно поверить, но кардиологической службы у нас в стране до 70-х годов не существовало. Это Евгений Иванович Чазов её создал, когда стало ясно, что ИБС, инфаркт миокарда, атеросклероз являются самым важным направлением медицины. Евгений Иванович даже предлагал объединиться и создавать кардиологическую службу на базу уже существующей кардио-ревматологической.
Почему я об этом говорю. Дело в том, что такой организации специализированной помощи ни в одной стране мира, кроме России, никогда не было. Везде превалировали врачи общей практики, семейные врачи, и было небольшое количество узких специалистов. А у нас была целая служба! И доступ пациента к специалисту-ревматологу был очень простой. В 21 веке, как выяснилось, этот факт имеет не меньшее значение, чем новые лекарства. Потому что успех или неуспех лечения, ближайший и отдаленный прогноз зависит прежде всего от того, как быстро пациент попадет к специалисту, который может назначить активное лечение.
Конечно, счет тут идет не на дни и даже не на недели. Но на месяцы — точно. Это играет огромную роль. Если мы не успеваем начать пациенту активную терапию, то он, конечно, не умрет, но на всю жизнь будет прикован к дорогостоящим лекарствам и окажется инвалидом, а в случае ревматоидного артрита — потенциальным кандидатом на дорогостоящее оперативное лечение.
Если мы начинаем лечение рано, в течение первых двух месяцев, то имеем очень высокий шанс достигнуть состояния ремиссии. Это состояние хорошо известно онкологам, а теперь и ревматологам. Она может быть лекарственной, поддерживающей, а может быть и безлекарственной. Так что реальный успех связан как с лекарствами, так и с успехами специализированной помощи.
Это проблемы всех стран мира. Вот Америка. Замечательная, прогрессивная страна. Но там, чтобы попасть к ревматологу, нужно как минимум полгода. И они бьют тревогу. Это проблема и других стран. Причина таких очередей — острая нехватка специалистов.
— У нас специалистов достаточно?
— Больше, но тоже недостаточно. У нас в России на более чем 15 миллионов человек с ревматологическими диагнозами примерно 1400 специалистов. То есть, один на сто тысяч. Это недостаточно, есть регионы, где вообще нет ревматологов.
Поэтому, с одной стороны, мы добились реальных успехов. А с другой — мы должны увеличивать эффективность здравоохранения, чтобы такого рода специалисты не были в дефиците. Это и закупки новых лекарств, импортозамещение, это совершенствование нашей службы.
Я вспоминаю, как много лет назад, в конце 70-х, в Москву приехала большая делегация американских ревматологов. Был подписан договор о сотрудничестве на правительственном уровне, и на волне такого активного сотрудничества были обмены делегациями. И только много лет спустя я понял, почему американцы так восторженно говорили о нашей ревматологии. Дело в том, что у них ничего подобного никогда не было. А мы жили в этой системе и не представляли, что может быть иначе. Нам казалось, это логично: если у пациента есть подозрения — болят суставы или шум в сердце, он идет к ревматологу, его обследуют, и это занимает сутки. У них это было в диковинку.
Академик Е.Л. Насонов в рабочем кабинете
— А сейчас у нас такая служба сохранилась?
— Сейчас у нас тоже появились большие сложности. Причин несколько. Но, прежде всего, проблема кроется в том, что нам необходимо повышать общий уровень подготовки первичного звена, терапевтов. К сожалению, «наши» заболевания часто протекают без яркой симптоматики, и терапевты очень часто их не распознают или ставят неправильные диагнозы.
Я не критикую терапевтов. Они самые несчастные люди. У них мало времени. Сегодня огромную роль играют знания о современных лекарственных препаратах, методах инструментальной диагностики, однако не меньшую роль играет и то, что известно тысячу и более лет. Это возможность врачу задать пациенту правильные вопросы. У наших же терапевтов зачастую нет времени просто поговорить с пациентом, понять, что его беспокоит. Многие к тому же не знают, какие вопросы надо задать.
А ведь 80 процентов любого диагноза — это даже не осмотр. Это опрос. 10 процентов — осмотр и 10 процентов — всё остальное: МРТ, КТ, лабораторные исследования…
У нас, к сожалению, возник какой-то странный крен в сторону различных методов исследования. Вот приходит пациент, и задаешь ему вопрос: «Как вы себя чувствуете?» — а он вместо ответа вываливает тебе на стол горы результатов обследований.
Вот у меня только что была такая пациентка. Ей поставили диагноз, а через два года посмотрели другие рентгенологи и сказали, что ничего такого там нет. А эта молодая женщина два года получала гормональные препараты!
Таких вещей очень много, я бы даже сказал, что сталкиваюсь с этим каждый день, и меня это очень печалит.
С академиком М.И. Давыдовым
— Ведь такой крен есть и у врачей, когда они зарываются в бумажки и даже не смотрят на пациента.
— Да, это бич современной медицины — уход в сторону различных методов функциональной диагностики. Ведь это зачастую означает и ненужную трату денег — государственных, если речь идет об ОМС, или денег пациентов, если это частная медицина. Но главное — зачастую это приводит к тяжелым последствиям — таким, как гипердиагностика. На мой взгляд, это даже хуже, чем недостаточная диагностика, потому что гипердиагностика ведет за собой терапевтические решения, иногда, мягко говоря, небезопасные для пациента. Когда мы не ставим никакого диагноза — есть надежда, что «само обойдется». Это тоже очень плохо, но то, что касается гипердиагностики — судя по тем пациентам, которые приходят ко мне, она приобретает трагическое значение.
— Какие еще причины того, что стало сложнее?
— Повторюсь: для того, чтобы быть врачом в 21 веке, надо очень много знать. Объем информации колоссальный, часто противоречивой. Чтобы в этом потоке разобраться, надо быть очень образованным ученым. Далеко не все способны таким требованиям соответствовать. Сейчас грань между наукой и искусством очень тонкая. Медицина, может быть, даже больше, чем 20–30 лет назад, стала искусством. Связано это с тем, как правильно вести себя с пациентом, как внушить ему определенную надежду на выздоровление, оптимизм, и это колоссальная проблема, которая не решается ни лекарствами, ни инструментальными обследованиями.
Есть такая общемировая проблема — приверженность к лечению. Оказалось, что 50 процентов больных не выполняют рекомендации врачей. Это не только у нас: по всем заболеваниям и по всем странам мира. Вот это и называется низкой приверженностью к лечению. Причины — врачу некогда объяснить пациенту, почему лечение должно быть именно таким. Или не умеет объяснить, донести до него эту информацию убедительно. Отсюда низкое доверие пациента к врачу.
А ведь в основе всех современных рекомендаций по лечению ревматических заболеваний лежит один пункт — взаимодействие врача и пациента. Даже при тяжелых заболеваниях это стоит во главе угла. А лекарство занимает второе, третье место. Но не первое. Потому что, если не убедить пациента, что ему это нужно, толку от назначений не будет.
Есть такое хорошо известное понятие как плацебо, плацебо-эффект, и проводятся соответствующие плацебо-контролируемые исследования. Сейчас стоит вопрос, как использовать плацебо-эффект на благо пациента. А это зависит именно от доверия.
— То есть намеренно назначать пустышку?
— Нет, не намеренно. Тут другое...
— Евгений Львович, ведь назначают же все время гомеопатию! Вот вам и эффект плацебо.
— Важен разумный баланс. Приведу пример, что мы вкладываем в понятие позитивного эффекта плацебо. Нам многое неизвестно. Будем признавать это. Я, кстати, теперь член комиссии РАН по борьбе со лженаукой, меня туда ввели. И я не являюсь сторонником гомеопатии. Но может быть такая ситуация, когда эти препараты могут сыграть положительную роль. Скажем, вы наверняка слышали о хондропротекторах. Они занимают свою нишу для лечения самого распространенного заболевания человека — остеоартрита и остеоартроза. В США эти препараты являются биодобавками, а в России и Европе — лекарствами. При этом эффект их не очень доказан, но в то же время они многим помогают. Так вот, обычно консервативные в этих вопросах американцы вдруг написали недавно, что, если человек уже начал принимать такие препараты и считает, что они ему помогают, то прекращать прием ни в коем случае нельзя. Пусть принимает, если ему от этого легче!
Кончено, мы не говорим о смертельно опасных заболеваниях. Даже ревматоидный артрит для таких экспериментов не годится, потому что это тяжелое воспаление, и его надо лечить специальными средствами. А есть заболевания, которые медленно прогрессируют, и благополучие больного, его самочувствие оказываются самым важным фактором. В этом отношении плацебо-эффекты могут сыграть позитивную роль. Сейчас даже самые консервативные ученые из разных стран мира признали, что мы не имеем права отбирать у пациента лекарства, если оно ему субъективно помогает. Другое дело, подчеркну еще раз, важно дифференцировать, кому мы имеем право такое лечение назначить. Потому что есть тяжелые болезни, где промедление смерти подобно, и тут не до плацебо-эффектов.
Академик Насонов с интересом рассматривает книгу академика И.И. Дедова, изданную в издательством "МИА"
— Давайте вернемся к тем революционным препаратам, о которых мы начали говорить. Сколько их на сегодня?
— У нас их сегодня 10. И вот что тут важно. Эти препараты разрабатывались специально для лечения ревматических болезней. До этого такие лекарства специально не разрабатывались. Чаще всего противоревматические препараты приходили к нам из онкологии. Они и сейчас занимают важное место, мы их используем, но в низких дозах, когда реализуется противовоспалительный эффект, а не подавление пролиферации и гибель клеток, как при онкологических заболеваниях.
Но в начале 90-х годов прошлого века и особенно в начале нынешнего тысячелетия вдруг поняли, что ревматические заболевания действительно социально значимы. И тогда все крупнейшие компании мира вложили колоссальные деньги, миллиарды долларов, в создание лекарств для лечения именно таких болезней, как ревматоидный артрит, спондилоартит, системная красная волчанка. Это признание факта, что эти заболевания распространенные, инвалидизирующие, наносящие колоссальный экономический ущерб за счет потери трудоспособности. Оказывается, что даже столь высокая стоимость производства лекарств оправданна, поскольку не допускает инвалидности, а следовательно необходимости выплачивать социальные пособия, которые довольно высоки.
Надо сказать, не так много существует заболеваний, для лечения которых специально разрабатываются препараты. В этом отношения ревматология — яркий пример. При этом, конечно, лекарства очень эффективны, но более всего — на ранней стадии заболеваний. Они, к сожалению, полностью не вылечивают, но позволяют достичь стойкой ремиссии. Зачастую для достижения эффекта поддерживающая терапия требуется постоянно, а это недешево и не очень комфортно для больного. И это колоссальная экономическая нагрузка на общество. На сегодня ревматические заболевания одни из самых дорогих в мире.
— А что сейчас с их доступностью?
— Ситуация в течение нескольких лет не очень плохая и не очень хорошая. Закупки остались на прежнем уровне, несмотря на рост курса доллара. Но этого недостаточно. На сегодня наши препараты получают 5–7 процентов нуждающихся. Ситуация очень тяжелая. Вот мне сейчас прислали отчет по регионам. Лечение получают, скажем, 500 человек. Хорошо. Но ведь появляются новые. Их не становится меньше. Мы ищем выход. Скажем, можем назначить генно-инженерные биологические препараты, а потом, добившись ремиссии, поддерживать ее, используя менее дорогостоящие методы лечения. Зачастую это продиктовано не экономическими причинами, а интересами больного, чтобы сделать лечение не только более дешевым, но и более безопасным. Пациенты, которые получают такую поддерживающую терапию, неплохо себя чувствуют. Но что делать с остальными? На них не хватает средств.
— Действительно, что же делать?
— Не знаю.
— Вы обмолвились об импортозамещении…
— Если бы мне этот вопрос задали несколько лет назад, я бы посмеялся над этим человеком. Я был уверен, что такое невозможно. Исходил я из того, что за каждым лекарством стоят колоссальные, многолетние финансовые вложения, многие миллиарды долларов. И я не мог представить, как это вдруг ни с того ни с сего вдруг прорастет наша современная фармпромышленность, которая почти полностью была разрушена.
Но оказалось, что я не прав. У нас существует несколько производств, которые смогли адаптировать самый лучший международный опыт. Это, например, компания «Биокад». Я несколько раз был на их заводах. Это современное, не уступающее лучшим западным образцам производство. Они смогли подготовить из наших талантливых молекулярных биологов, химиков очень хорошие кадры. Все прошли зарубежную стажировку. Завод имеет международный сертификат. Они уже создали несколько препаратов, в том числе для лечения ревматических заболеваний, которые мы применяем в практике. Проводятся клинические испытания с международным участием новых противовоспалительных препаратов и на самом высоком уровне.
В конце апреля состоится Съезд ревматологов России, и генеральным партнером является российская компания «Биокад». Наш Институт как федеральный научно-исследовательский центр и эта компания замечательно сотрудничают. Мы патриоты и очень хотим гордится своей страной. С западными компаниями мы тоже сотрудничаем, но здесь другой уровень отношений, больше похожий на дружбу по интересам. Это совместная научная работа: мы вместе проводим исследования эффективности и безопасности новых лекарств, показаний их применения и так далее.
— Верно ли я поняла, что у них есть и готовые препараты?
— Есть препараты, находящиеся в разработке, есть уже готовые и активно применяемые. Сейчас мы широко применяем анти-В-клеточный препарат, который был создан для лечения определенного вида лимфом, но уже начиная с 2003–2004 годов используется для лечения ревматоидного артрита и других заболеваний. Сейчас компания «Биокад» создала биоаналог этого инновационного препарата. Он прошел апробацию и, с нашей точки зрения, по эффективности и безопасности не уступает западной разработке. Это один из ключевых препаратов для лечения ряда ревматических заболеваний.
У них довольно большой портфель новых лекарств, и мы принимаем участие в ранних фазах их клинических испытаний. Уверен, будет большой успех. Есть серьезная надежда, что со временем все эти препараты станут более доступными — ведь отечественное производство должно активно поддерживать государство.
Мемориальный кабинет В.А. Насоновой — институтский музей ревматологии
— Евгений Львович, и всё же. Вы сказали, что сейчас специалистов не хватает, терапевты часто ошибаются. На что человеку обратить внимание в своем самочувствии, дабы не упустить болезнь?
— Я бы назвал два основных момента. Первое — это боли в кистях. Наиболее часто они связаны с остеоартритом, особенно у людей после 50 лет. Если боли в кистях и припухлость симметричная плюс феномен скованности по утрам появляется у молодых людей, это очень похоже на дебют ревматоидного артрита. А это, повторюсь, основное сейчас ревматическое заболевание, протекающее очень тяжело. И те 10 лекарств, о которых шла речь, — это всё лекарства для лечения ревматоидного артрита.
Второе — это боли в спине. У подавляющего большинства людей на земном шаре хотя бы раз болела спина. Но если эти боли появляются до 45 лет, особенно у мужчин, обычно в нижней части спины и ягодицах, особенно если они не усиливаются, а наоборот уменьшаются при физической нагрузке, а вот в ночное время наоборот усиливаются, — это очень подозрительно в отношении спондилоартрита, или, как мы его называем, болезни Бехтерева. Это ночные боли, боли при ходьбе.
Есть и другие характерные симптомы, но эти два — наиболее часты и распространены. О них должны знать все терапевты и, желательно, пациенты. Этими двумя заболеваниями страдают примерно два процента населения планеты. Цифры не маленькие. Миллионы людей. Именно для этих заболеваний ранняя диагностика особенно важна.
— Какие планы и перспективы у Института?
— Институт находится в стабильном периоде. Мы стараемся сохранить всё то хорошее, что нами было достигнуто. Надеемся, что к юбилею государство поможет провести модернизацию Института. Нам важно, чтобы качество оказываемой помощи ни в коем случае не снизилось. Основная проблема у нас — это то, что лекарственное обеспечение в основном доступно инвалидам. А наша задача другая — не допустить инвалидности.
— То есть человеку выгодно стать инвалидом?
— Да! И это очень большая проблема, которая пока не решается.
Профессор Н.Н. Кузьмина в мемориальном кабинете В.А. Насоновой
— Насколько важна для вас преемственность?
— Чрезвычайно важна. Я очень дорожу кадрами. У нас есть люди, которые проработали в Институте практически всю жизнь. Они пришли в 1958-м году, когда он открылся, и работают до сих пор. Это уже немолодые люди, но интеллектуальный уровень у них очень высокий. Вот, например, Нина Николаевна Кузьмина — наш главный научный сотрудник. Она работает в институте с момента его основания, то есть почти 60 лет. В течение 28 лет руководила детским отделением. Прекрасный специалист, профессор. Дети её обожали. А с моей мамой за полвека совместной работы они стали близкими людьми. Не удивительно, что сейчас Нина Николаевна много сил и времени отдаёт мемориальному кабинету Валентины Александровны. В нашем Институте он занимает важное место. Музей открыт для всех интересующихся. По сути, это не просто рабочее место В.А. Насоновой, а летопись российской ревматологии. Мы любовно, по крупицам собрали уникальные документы, фотографии, личные вещи, мебель тех лет…
Есть у нас и среднее поколение. С 30–40-летними некоторые проблемы. Это поколение, где многие уехали за рубеж, кто-то ушел в бизнес. Мы потеряли немало талантливых людей. С другой стороны, появляется молодежь. Ревматология становится престижной специальностью. Раньше сюда попадали случайно, сейчас же идут осознанно и целенаправленно. В ординатуру мы набираем молодых людей с красными дипломами. Сейчас из Первого медицинского университета имени И.М. Сеченова пришла девочка-отличница и сказала, что хочет быть именно ревматологом. Это очень радует. Прекрасно, когда на твоих глазах растут ученики, которым по-настоящему интересна эта наука.
Беседу вела Наталия Лескова
Фото Андрея Афанасьева и из архива Института