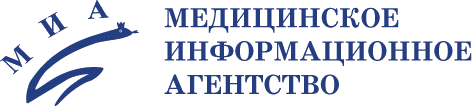— Опять вызывают к Потаповой... к умирающей, на Запрудную, — сказала фельдшер «скорой помощи» Крошкина доктору Чиликову, когда тот пришёл на дежурство. — Сегодня уже в третий раз... Полтора часа назад я ездила туда, сделала обезболивающее.
— Но ведь утром был у Потаповой сам Фокин. Что им — мало консультации заведующего отделением? — удивился Чиликов. — Это же цирроз, понимать надо... Болезнь на этой стадии неизлечима.
— У людей горе, — вздохнула Зинаида Фёдоровна. — Кажется, они там совсем голову потеряли: кричат в телефонную трубку, угрожают, плачут, требуют доктора...
— Похоже, ей, Потаповой, совсем худо...
— Да, мучается она... от боли мучается, — ответила Крошкина срывающимся от волнения и жалости к больной голосом. — Я только что оттуда... Ужас!..
— Придётся съездить ещё раз, — кивнул Чиликов. — Хотя не понимаю, чем тут поможешь. Наркотиков дали всего две ампулы...
«Да разве спасёт её одна инъекция морфия? — подумал он. — Всё равно умрёт не сегодня, так завтра... Да не жалко мне этого морфия, не жалко! — Александр будто оправдывался перед кем-то. — Но как им объяснить, что в стране бушует кампания по борьбе с пьянством, а заодно и с наркоманией? У нас ведь всё так: рубить — так с плеча! Кто-то где-то решил, что если врачу дать коробку морфия на дежурство, так он наркотиком приторговывать будет... А как мне растянуть эти две ампулы на суточное дежурство? Ещё неизвестно, какая ночь впереди. Сейчас изведу весь наркотик на безнадёжную больную, а утром вызовут к инфарктнику — чем я помогу ему?..»
— Ну так как же, Александр Васильевич? — напомнила о себе Крошкина.
— Собирайтесь, поехали, — хмуро отозвался Чиликов. — Всё равно не отвертеться.
«Поеду, сделаю ей укол… анальгина с димедролом, — решил он. — Если хоть чуть-чуть поможет — хорошо. А «морфушу» сэкономлю, пригодится».
До Запрудной доехали за десять минут. У калитки Потаповых стояла чёрная «Волга», новенькая и чистая, но Чиликов поначалу не обратил на неё внимания. Да и не было времени рассматривать автомобиль.
Едва доктор вышел из «скорой», к нему подбежал хозяин дома, пожилой, лысеющий, в расстёгнутой на груди рубашке. По теням под глазами, по его желтозубому оскалу, порозовевшим склерам и многодневной седой щетине на щеках нетрудно было понять, что этот человек до предела издёрган и напуган. Потопов бросился на Чиликова с кулаками.
— Вас вызвали два часа назад! Почему вы явились только теперь?
— Тихо, тихо, — миролюбиво вскинул руки Александр. — Я только что пришёл на дежурство и вот — уже у вас...
— Почему мы должны вымаливать у вас помощь как милость? Это ваш долг — явиться по первому зову больного, а вы... а для вас больной человек — как заноза в заднице!
— Ну, зачем вы так?..
«Кажется, диспетчер на станции что-то наговорил ему по телефону. Не умеем сдерживаться, а потом нам стыдно», — подумал Чиликов.
— Она умирает, умирает! — крикнул Потапов.
На пороге появилась девушка в простеньком халате.
— Папа, ну пропусти же доктора в дом, — взмолилась она.
Потапов дёрнул щекой и отвернулся.

А.Г. Венецианов. Причащение умирающей (1839, Государственная Третьяковская галерея)
Чиликов вошёл в комнату к больной — и остолбенел: у изголовья умирающей горели свечи. Женщина лежала запрокинув голову, кожа на её впалых щеках была жёлтой, сухой и тонкой, и в полумраке легко угадывались очертания черепа по чётким контурам скул и нижней челюсти, по глубоким впадинам глазниц. Шторы были плотно задёрнуты, на стенах подрагивали тени. На прикроватной тумбочке лежала книга в чёрном переплёте с серебряным крестом на обложке. От всего этого средневекового антуража Чиликову, убеждённому атеисту, вдруг стало страшно.
«Где тут у вас руки помыть?» — пробормотал он и вышел в тёмные сени. И вздрогнул, похолодел, когда шевельнулась, вздохнула, надвинулась на него большая тень. Это был священник, громадный, русобородый, в рясе, при полном своём параде. «Ага, так вот кто приехали к ним на «Волге», — догадался Чиликов. Никогда прежде он не видел попа так близко. В городе, где Александр вырос, кажется, и церквей-то не было, а к тем, кто истово верил в бога, носил крест и свято и открыто чтил религиозные праздники, относились чуть насмешливо, с недоверием, с жалостью и сочувствием, как к рыночным попрошайкам, алкашам или умалишённым. В том безоблачном прошлом, которое казалось теперь таким далёким и светлым, были пионерские костры и комсомольские собрания, первомайские демонстрации и страстные диспуты о тлетворном влиянии церкви, школьников пугали коварством священников, умело заманивающих молодёжь в липкие сети сект, а в бога верили разве что только тёмные старухи и тихие костлявые девушки с полубезумными глазами, с загадочным влажным блеском в глубоких зрачках — таких людей немного боялись, от них шарахались, как от заразных больных, они казались пришельцами из давнего мрачного вчера... И вот теперь — эта встреча в полумраке сеней... Она напугала доктора и окончательно вывела его из равновесия.
— Тьфу, ч-чёрт, — тихо выругался он. — Триллер какой-то...
— Вы врач? — строго спросил священник; голос его прозвучал гулко и зычно, как в погребе.
«Вот ещё... диктор Левитан! Глотки лужёные у них, что ли? — подумал Чиликов. — Им бы лотерейными билетами торговать в подземных переходах...»
— Э-ммм... — растерялся Александр.
Батюшка сердито глянул на Чиликова и сказал:
— Вы там недолго.

Б.М. Кустодиев. Портрет священника и дьякона (1907, Нижегородский художественный музей)
Это было похоже на приказ. Ты, дескать, уже тут поработал, проку от тебя всё равно никакого, так что поторопись, теперь моя очередь.
— Хорошо, — кивнул Чиликов. — Всего один укол...
— Недолго! — повторил священник.
Доктору возмутиться бы, разозлиться, не мальчик он всё-таки, приехал не развлекаться, а работать... но Чиликову вдруг стало стыдно: хотел сэкономить морфий и забыл о муках умирающей женщины. Какая мелочность! Чего стоит вся эта позорная возня с циркулярами и приказами облздравотдела, это нелепое «как бы чего не вышло», это жалкое лакейство и стремление исполнить приказ начальства любой ценой, — чего стоит всё это в тот миг, когда понимаешь, что человек, обратившийся к тебе за помощью, стоит на пороге смерти и страдает от страха и боли, от которой не могут избавить даже тысячи инъекций! Чиликов искренне рассердился и на себя, и на тех, кто своими дурацкими приказами мешает работать. «Угодничаем перед ними, — подумал он, — тупо выполняем их приказы, вместо того, чтобы сказать такому чинуше: “Ты, братец, дурак и ни черта не понимаешь в нашем деле, а потому... засунься ты со своими бумагами! Я врач и мне решать...” Но нет, боимся... мы покорны, как стадо овец! Вот где раковая опухоль, вот где цирроз! Всё сжирает — самое дорогое, самое хрупкое... Устроили ажиотаж с этими наркотиками и словно не понимают, что в жизни бывают ситуации, которые нельзя подвести ни под один безликий норматив и стандарт... Кто-то где-то колется в своё удовольствие, вот и ищите их… а больные люди тут не при чём!»
Свечи у изголовья доживающей последние минуты своей жизни больной, гнетущая тишина, торжественная и страшная, сдержанный плач какой-то женщины в соседней комнате, строгий поп, готовый выполнить свой долг — всё это как будто отрезвило Чиликова. Он набрал в шприц морфий и подошёл к кровати умирающей...