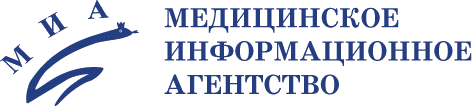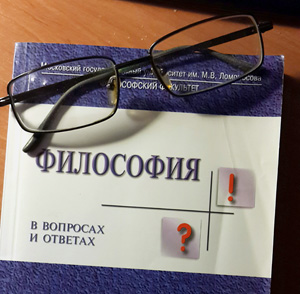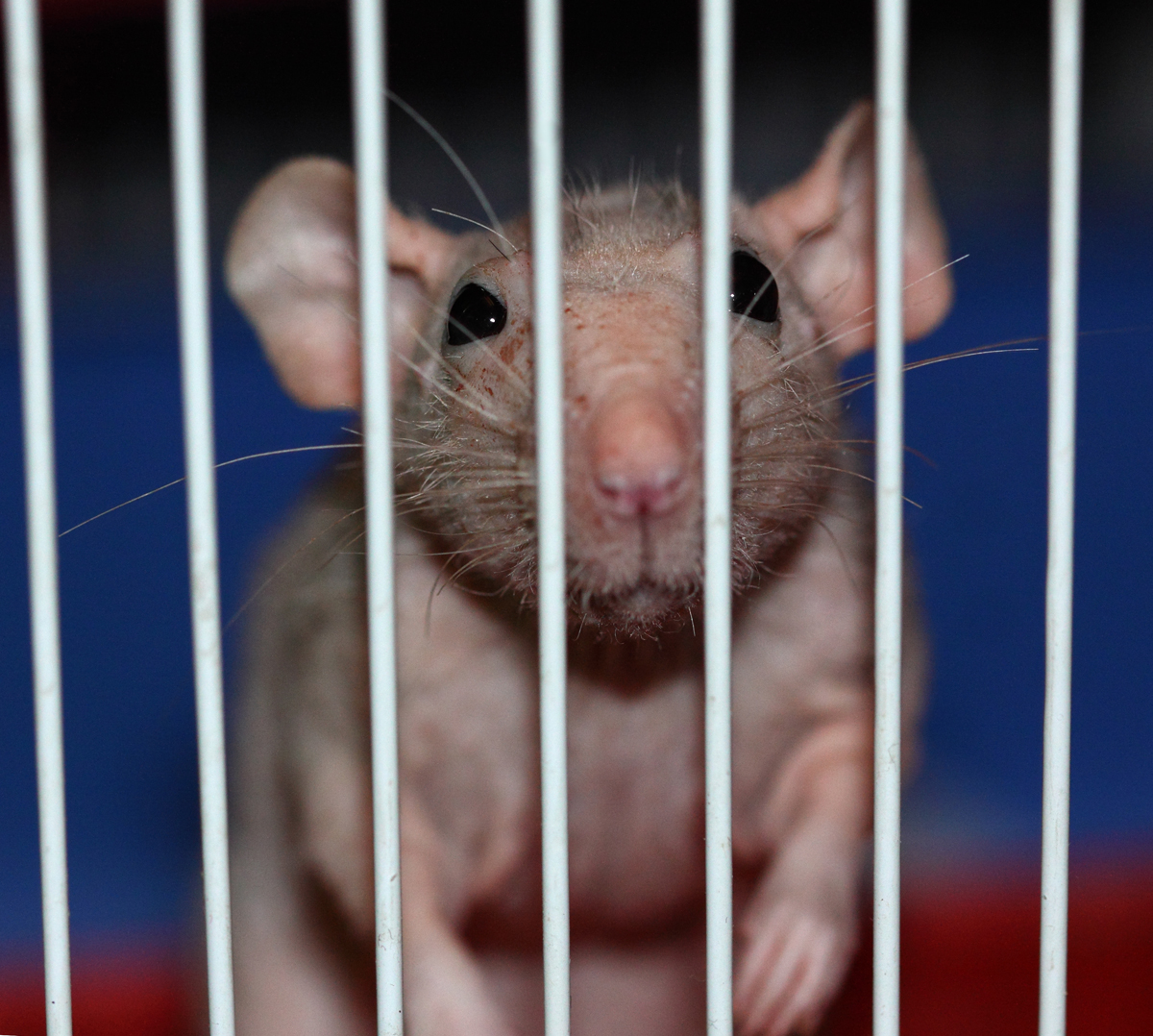В девятнадцать лет я пошёл работать санитаром в родильный блок московского роддома №3. Поэтому хорошо знал, как приготовить антисептический раствор, чтобы обработать рахмановскую кровать, полы или окна. Этими своими знаниями я воспользовался на семинаре по общей хирургии: рассказал, как применяется раствор хлорамина и раствор с нашатырём. Наш преподаватель, кажется, удивился точности ответа и побежал к заведующему кафедрой, профессору Юлию Ефимовичу Берёзову. А потом мне сообщили, что Берёзов мне поставил зачёт автоматом (теперь не нужно было что-то там сдавать). Конечно, я потом долго этим гордился.
Официальные источники сегодня сообщают о Ю.Е. Берёзове, что он, ученик академика А.Н. Бакулева, возглавлял кафедру с 1964 по 1980 годы, автор 8 монографий и более 200 научных работ, признанный авторитет в хирургии желудка и пищевода. На кафедре в те годы активно занимались эндоскопией, а клиника общей хирургии стала ведущим центром по лечению рака желудка и пищевода. Студентами занимались, конечно, кафедральные ассистенты и доценты, и видели мы профессора не так уже часто — обычно на лекциях и конференциях.
Первая встреча с ним запомнилась надолго. Это был первый курс, лекция «Введение в специальность». Знаменитый советский хирург Юлий Ефимович Берёзов выступает перед нами громогласно, актёрствует, цитирует Пушкина, говорит по-латыни, он сердится: предыдущая лекция в этой аудитории была по физике, и физик с большим опозданием освободил «сцену»… Через 25 лет я написал роман о врачах «Хроника летального исхода» и немного рассказал о студенческой жизни медиков, о некоторых своих преподавателях, о профессоре Берёзове (который фигурирует в книге под фамилией Журбин) и об этой лекции на первом курсе.
(Кстати: почти уверен, что он не любил, когда его сотрудники ещё и «литературой баловались». В его клинике некоторое время работал хирург и писатель Юлий Крелин, автор известных книг «Переливание сил», «Хирург», «От мира сего», «Хроника московской больницы» и др. Говорят, с Берёзовым у него случился конфликт. Чуть позже станет понятно, почему я об этом вспомнил…)
Умер Юлий Ефимович в тот год, когда мы учились на четвёртом курсе (1980). Нам сообщили об этом на лекции по дерматологии. Умер после операции… Мы с моим другом-гинекологом однажды вспомнили эти дни. «Удивительно, что знаменитые терапевты умирают от инфарктов, невропатологи — от инсультов, хирурги — от хирургических заболеваний, — сказал я. — А от чего умираем мы, гинекологи?» Он ни на секунду не задержал ответ: «От экстрагенитальной патологии»…
Роман «Хроника летального исхода» вошла в мою трилогию «Париж — Луговая», которая была издана в 2013 году. Чтобы не повторять заново то, что давно уже сформулировано и опубликовано, я просто повторю здесь главу 20 из романа (с незначительными сокращениями). В этом фрагменте автор обращается напрямую к главному герою своей книги, врачу-гинекологу, пребывающему в депрессии, и призывает его «вспомнить всё» - студенческую юность, первые годы работы. В ней много документального (почти всё это было на самом деле), но всё же не нужно забывать, что это художественная проза, фамилии изменены и немного смещены по времени события…
***
Хирург Евгений Павлович Журбин говорил с вами о чём угодно, только не о хирургии, но вспомни: после лекций Журбина ты бросался к учебникам, как одержимый.
… Лекцию по физике читал доцент Сорокин, робкий, страшно зажатый человек с застенчивой улыбкой. Физику он любил, рассказывал о ней вдохновенно, размашисто. Свою лекцию Сорокин затянул минут на пятнадцать дольше положенного, а потому перерыв перед следующей («Введение в специальность») оказался совсем коротким. По рядам носился слушок, что ждут какого-то Журбина...
И вот распахнулись двери, и в аудиторию решительно вбежал плечистый крепыш в идеально отутюженной тройке, в ослепительно белой рубашке с ярким галстуком. Контраст со скромным доцентом Сорокиным был более чем разителен. Новый преподаватель поднялся на кафедру и картаво провозгласил:
— Здгавствуй, племя младое, незнакомое!
В аудитории зааплодировали. Кто-то засмеялся.
Журбин начал лекцию с сердитого заявления о том, что он нынче не в духе.
— Мне испортили настроение. Я очень люблю знакомиться, но пришлось ждать этой минуты дольше, чем предполагалось. Чёрт знает что такое!
И он стал ругать физика за то, что тот затянул лекцию. Вы немного растерялись. Такая неприязнь одного преподавателя к другому, да еще выставленная напоказ, была для вас, вчерашних школяров, непривычной. Журбин же, не дав вам опомниться, начал критиковать систему медицинского образования.
— За два года вам изрядно засорят мозги всякого рода чепухой, — сказал он, сильно картавя. — Вы же обязаны знать и помнить, что медицина стоит на четырех китах, — он стал загибать пальцы. — Анатомия, физиология, гистология и биохимия. Остальное вам не нужно вовсе. Вряд ли вам пригодится знание физики или, например, количественного анализа, если вы будете работать в практической медицине. Я уж не говорю о математике и зоологии...
И опять — эпитеты в адрес тех, кто своими глупыми лекциями отнимает время у студентов...
Стрижка «ежиком», маленькие оттопыренные уши, внушительный живот, широкие плечи, короткие крепкие ноги — таким был профессор Журбин. Он очень напоминал капитана дальнего плавания, а еще больше — боцмана из приключенческого фильма для подростков.
Было видно, что Журбин искренне сердится, но, тем не менее, в мыслях его была логическая последовательность, лекция получалась складной, насколько вообще может быть внятной лекция по такому расплывчатому предмету, как «введение в специальность».
Журбин вдруг спросил:
— Кто мне скажет: что означает слово «студент» в переводе на русский?
В аудитории возникло напряженное молчание.
— Нуте-с, я жду.
Пауза затягивалась.
— Имейте в виду, — сказал профессор, — тому, кто ответит, поставлю пятёрку по хирургии — позже, на третьем курсе.
И тут из зала донеслось:
— Студент — значит «усердно работающий».
Профессор резко обернулся на голос, вскинул руку и потребовал:
— Фамилия!
— Тырковин...
— Как? Громче, чтобы все слышали!
— Тырковин.
— Запишите, — велел Журбин своему ассистенту, который сидел в первом ряду. — Пятерка у Тырковина в кармане. Молодчина, Тырковин!
Журбин повел разговор о том, что изучение медицины есть напряженный труд, и только настойчивость и упорство ведут к успеху. При этом профессор энергично подчеркивал некоторые слова взмахом кулака, а в пример приводил... самого себя, картаво напирая на прилагательное «каторжный».
— Всё, чего я добился в жизни, достигнуто каторжным трудом — работой до седьмого пота, до дрожи в конечностях. Ка-тор-жным трудом! Я до позднего вечера вкалывал в клинике, в морге или в библиотеке, а мои товарищи развлекались и лоботрясничали. Они ходили в театры, читали пикантные романишки и пьянствовали, я же работал, как проклятый, забыв об удовольствиях земных. Пролетели годы, я многого достиг, стал профессором, возглавил кафедру и теперь могу читать любые книги и ходить в какие угодно театры. А где они — мои вчерашние приятели, прожигавшие когда-то свою молодость? Их и след простыл. Но вы-то этого еще не понимаете. Вы желаете быстрых результатов. А наука — не девка, она не сдастся сразу. Вы растёте и становитесь половозрелыми. Вам хочется многого: славы, денег, положения в обществе... Вы мечтаете вот о чем: красиво развалиться в импортном кресле, включить «Панасоник», открыть свой ба...
Он попытался произнести слово «бар», но у него не получилось.
— Уж не обессудьте, — сказал Журбин, — в моём языке, как у китайца, нет буквы...
Он обернулся к доске за мелом, чтобы написать литеру «р», но мела не нашел.
— А что, — брезгливо поморщился профессор, вспомнив доцента Сорокина, — этот — уже сжевал?
Трудно было не рассмеяться, представив застенчивого и как будто даже постоянно обиженного чем-то физика, жующего мел у доски... Вы понимали, что профессор переигрывает и не слишком тактичен, но всё же смеялись, потому что восторженной юности вообще свойственна смешливость, а повод к ней — нередко дело десятое...
Журбин размеренно вышагивал по... так и подмывает сказать «по сцене», настолько это выглядело по-актёрски точно и звонко. Его выступление было переполнено цитатами (все больше из Пушкина), а еще — пословицами, анекдотами, неожиданными сравнениями, необычными эпизодами из практики. Журбина невозможно было не слушать.
Запомнилась тебе и другая лекция профессора — уже на третьем курсе, по общей хирургии. Евгений Павлович был в ударе: запальчиво рубил воздух ладонью, умело повышал голос или, напротив, понижал его до трагического шепота, цитировал классиков литературы и медицины, театрально жестикулировал, саркастически смеялся и весьма натурально гневался — это был спектакль! А сакраментальную фразу его, прокарканную зловеще, по-вороньи: «Самый стгашный стафилококк — стафилококкус аугеус!» [Staphylococcus aureus, золотистый стафилококк], — вы потом повторяли на все лады еще не один год, чаще с интонацией провинциального акт`ра, возвещавшего на детском утреннике нечто вроде «Я Гудвин, Великий и Ужасный!!!»
Лекция уже приближалась к своему финалу, когда Журбин вдруг осёкся, уставился куда-то в самую гущу ваших голов и после мастерски выдержанной паузы потребовал:
— Немедленно снимите шляпку!
Приказ был адресован Галочке Мониной, самолюбивой и ершистой девушке, которая осмелилась явиться в аудиторию в модной шляпке.
— Я, девушка, вам, вам говорю! — повторил Журбин и направил на Галочку свой жирный, совсем не хирургический палец.
Та заёрзала, но сделала вид, что не понимает.
— Кто? Что? — забеспокоились сидевшие рядом с Мониной студенты, увидев, что профессорский палец направлен куда-то в их сторону.
— Вы, вы, — не унимался Журбин. — Я к вам обращаюсь.
— К кому? Кто?
— Да вон же... нет, не вы, рядом с вами — барышня в шляпке!
Наконец все головы повернулись к Галочке, и воцарилась опасная тишина. Возникла щекотливая для Мониной ситуация: с одной стороны, не грех бы подчиниться, профессор ведь настаивает, сердится, с другой же стороны — что за бесцеремонность такая, в самом деле? Ведь не ребёнок же Галочка, девица на выданье, можно сказать. Хочется пофорсить, покрасоваться, блеснуть девичьей статью и гордостью, похвастать фирменной шмоткой... Не выполнить приказ лектора — значит пойти на конфликт, отважиться на дерзость, а выполнить — так унизиться безмерно, глупо и бессмысленно, как застигнутой со шпаргалкой отличнице.
— Я жду! — неумолимо закипал профессор. — Вы испытываете моё терпение.
И тут Галочка слабо подала голос.
— Между прочим, в соответствии с нормами международного этикета женщина имеет право носить головной убор в помещении.
— Что? Как??? — взревел Журбин. — Как вы сказали? Международный этикет?
И профессора понесло. Он метал молнии, бушевал, тряс кулаками, кричал, иронизировал, насмешничал. Речь его казалась бесконечной и бессвязной, но даже по отдельно взятым словам можно было с большой долей уверенности догадаться, что Журбин безжалостно бичует все наносное, чуждое нам, весь этот трижды гнилой международный этикет с его бессовестной лживостью и чванством.
— Мы, простые советские хирурги, — гремел профессор (вообще-то в его исполнении последнее звучало как «хиганги»), — на прошлогоднем симпозиуме в Стокгольме одни только и делали дело... все вокруг, болтуны и пижоны заморские, красиво курили, красиво, понимаешь, пили и жрали... а мы, труженики, пахари, стеснялись при них — селёдку, боялись расстегнуть пиджаки и не вовремя из-за стола выйти, потому что — этикет... потому что они, трепачи поганые, не дай бог, если на нас свысока... боже упаси нам опростоволоситься, боже упаси!.. Они, зажравшиеся бездельники, ни бельмеса ведь в хирургии, но зато знают э-ти-кет!!! Они, как пугалы огородные, в смокингах и бабочках, с сигарами, всё по-французски да по-английски, а мы, в пиджачках и галстучках, как бедные родственники перед ними... не знали, как подойти, как спросить...
И через каждые два-три слова — язвительно-ядовитое «международный этикет», произнесенное картаво, с неподдельным раздражением...
Пришлось Галочке в конце концов смириться. Она пожала плечами, покраснела и шляпку сняла.
Но не успел Журбин успокоиться, как к нему на стол передали записку. Что в ней было — ты уже не помнишь. Главное, что подписана она была так: Н. Шадрин. Кто-то жестоко пошутил, потому что никакого Н. Шадрина у вас на курсе не было. Жестокость же заключалась в том, что хирург Н. Шадрин состоял когда-то в подчинении у Журбина, стал кандидатом наук, а потом, кажется, и доктором, и написал роман о врачах, где в главном персонаже, руководителе солидной клиники, большом мастере своего дела, но тиране и самодуре легко угадывался сам Журбин. Разумеется, роман профессору не понравился. Журбин выжил Шадрина из клиники. Теперь же какой-то шельмец напомнил профессору об этом. И опять взыграло в Евгении Павловиче самолюбие. Он побагровел до корней волос, окинул недобрым взглядом аудиторию и заговорил о том, что, дескать, вполне догадывается о коварной подоплёке записки, ибо хорошо знал этого самого Н. Шадрина — хоть и был он неплохим «хигангом», да человечишкой оказался неважнецким, накропал позорный пасквиль. В медицине, вишь ты, каждый пятый мнит себя Чеховым, а методы их насквозь прогнившие: берут историю болезни и перекраивают ее «под литературу», однако толку от этих писак недобитых — ни на копейку.
Вот так и прошла та лекция — под смешки, крики и плохо скрытое улюлюканье. Не исключено, что записку ту сама Галочка Монина и написала...
А как забыть врачебные конференции на кафедре Журбина? Однажды главной темой утреннего совещания стала банальная ресторанная драка. Вышло так, что молодые ассистенты кафедры перепились, подрались, угодили в милицию, откуда и пришла в клинику соответствующая бумага. Вот профессор и понёсся галопом:
— Вместо того чтобы самоотверженно работать, совершенствоваться, вкалывать, как это делаем мы, старшие и опытные товарищи, несколько скудоумных молокососов — встаньте, встаньте, когда о вас профессор говорит, не притворяйтесь, что не понимаете, о чём я, — так вот, эти зарвавшиеся недоросли соизволили развязать гнусную потасовку. И где?! В моём! персональном! ресторане! Вот так, не больше и не меньше! Ну, чего молчите? Потрудитесь ответить... за свои поступки. Да, мы тоже дрались! — профессорский голос начала переходить на торжественное crescendo. — Дрались! Мы были молоды, честолюбивы и тоже дрались!
(Оркестр заиграл forte.)
— Повторяю, и мы тоже! И, бывало, в кабаках! И, случалось, под столом — ногой! в живот!!!
(Fortissimo.)
— Но мы — пахали, как каторжники, демонстрируя удивительную преданность раз и навсегда избранному пути. И мы создавали себе добрую репутацию — день и ночь, день и ночь. И неустанно заботились о своем реноме. И нас — у-ва-жа-ли!..
И дальше в том же духе.
Потом Журбин поднял седовласого хирурга и поинтересовался:
— А ты, Сергей Кузьмич, ты там не был — с ними, с этими?
Общий смех (впрочем, довольно сдержанный).
— Что вы, Евгений Палыч...
— А то смотри. Я вот рекомендую тебя на женевскую конференцию по пластическим операциям на желудке, так мне хотелось бы не краснеть потом...
…А потом Журбин умер. Его оперировал лучший друг, заведующий другой хирургической кафедрой. Операция прошла с тяжелейшими осложнениями, развился перитонит с кишечной непроходимостью.
Вы узнали об этом чуть позже.
На лекции по кожным болезням голос доцента Малюковой был слаб, потом и вовсе задрожал, зазвенел слезой.
— Мне трудно говорить, — чуть слышно произнесла она. — Умер Евгений Павлович Журбин. Это... это поразительно...
Она заплакала.
На лечфаке были отменены занятия.
Было много венков. Траурный марш Шопена звучал сдержанно, торжественно — хоронили государственного человека, который принёс много добра людям. Но тогда ты не думал так высокопарно. Ты думал о том, что профессор Журбин мало говорил с вами о хирургии, но после его лекций ты бросался к учебникам, как одержимый...
Источники фото: Интернет, http://www.rsmu.ru/790.html